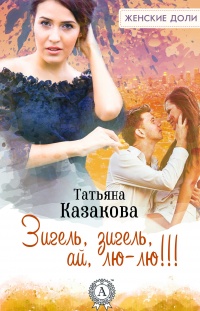Книга Гарем Ивана Грозного - Елена Арсеньева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Неисповедимы пути Господни!» – только и подумал совершенноприбитый Годунов, опуская глаза, чтобы никто не мог прочесть промелькнувшего вних бешенства. Итак, она оказалась права, эта рыжая ведьмина дочка, когда сдразнящей улыбкою уверяла, что царь не упустит ее, возьмет к себе на ложе,потому что она знает, как заставить мужчину преисполниться страстным,неодолимым желанием… и если бы не должна была сохранить себя в чистоте длягосударя Ивана Васильевича, она с удовольствием доказала бы это Борису!
«Боже спаси! – подумал он тогда с суеверным, нерассуждающимужасом. – Боже спаси и сохрани!»
А ведь вышло по ее!
Зато, кроме этого, почти все происходило как по писаному.Борис не сомневался, что Воротынский будет схвачен и в пыточной сразу укажет начеловека, который подал ему мысль пристроить Анхен во дворец, – то есть наБомелия. Так и получилось. Как и предполагал Годунов, упоминание бывшегоархиятера не спасло Воротынского, а только подлило масла в огонь. Окольнымипутями уже бродили по Москве слухи, невесть как просочившиеся из застенков,будто бы дохтур Елисей называет в числе своих сообщников множество бояр ипрежних опричных людей: даже на пороге смерти злолютый волхв, иноземный чародейпродолжает вредить русским людям и желает увести с собой на тот свет как можнобольше ни в чем не повинных душ.
Очевидно, царь до поры до времени тоже держался такогомнения, не давал волю необоснованным подозрениям, однако признание Воротынскогозаставило его обезуметь. В этом признании он увидел только желание преступникасвалить свою вину на другого: дескать, Бомелию все равно помирать, одним грехомбольше, одним меньше, какая ему разница? – и с этого мгновения не толькоповерил в действительную либо вымышленную Бомелием измену Воротынского, но,повинуясь своей вывихнутой логике, счел вполне достоверными и другие оговорылекаря.
Поэтому, едва прибыв в Москву, Годунов узнал, что схвачены иброшены в застенки также и боярин, князь Петр Андреевич Куракин, и ИванАндреевич Бутурлин, боярин тож, и дядя умершей царицы Марфы, Григорий Собакин,и брат покойницы, Каллист Васильевич Собакин, и другие бывшие земцы, а такжеревностные опричники, среди которых были Петр Зайцев и князь Борис Тулупов,воевода дворовый.
Именно участь Тулупова заставила Бориса Годунова содрогнутьсяи оставила в его густых, смоляно-черных волосах первые следы седины. Молодойкнязь, некогда отличаемый государем, теперь был по его хладнокровному приказупосажен на кол. Мать, княгиня Тулупова, принадлежавшая к числу ближних боярыньбывшей царицы Анны Алексеевны, осмелилась просить у царя заступы, однаковстретила ледяной отказ. Не перенеся мучений сына, она сошла с ума и умерла уподножия кола, на котором испустил дух Тулупов.
Был ли молодой воевода хоть в чем-то виновен? Годунов незнал доподлинно. Тулупова просто-напросто задело смертной косою, но ведьпобудил смертушку махать этой косою не кто иной, как Борис Федорович Годунов!Даже не Бомелий, оговоривший Тулупова. Первопричиною все-таки был именноГодунов…
Только теперь он осознал вполне, в какую опасную игрузаигрался. Только теперь понял, что сменил объезженного, смирного коня своейсудьбы на дикого, необузданного тарпана,[97] который обезумел и понес, и никтоне знает, сбросит он всадника, затопчет его копытами, или все-таки удастся обротатьего и принудить повиноваться.
Хуже всего было то, что он не мог выведать главного: называлли Бомелий его имя среди прочих изменников, указал ли, что именно по советуГодунова просил Воротынского за Аннушку Васильчикову.
И ему непрестанно слышалось спорое тюканье топоров, которыеобтесывают еще один кол – на сей раз для него самого.
А между тем Бомелий о Годунове смолчал…
К тому времени, как к нему приступили с новыми допросаминасчет покушения Воротынского на честь государеву, он уже мало что соображал иотвечал «да» на самые нелепые вопросы, называл самые неожиданные имена простотак – чтобы спастись от очередной пытки или отсрочить ее хотя бы на несколькоминут. Он даже удивлялся, насколько живучим оказался его организм, которыйникак не умирал, и сердце никак не останавливалось, и мозг продолжал мыслить истрадать, и даже беспамятство, спасительное беспамятство снисходило на негослишком редко.
В беспамятстве он хотя бы не мучился от жажды! Да, ему почтине давали пить, ведь Бомелий был лютый волхв и чародей, а русские верили, чточародеи могут уйти из тюрьмы с помощью самого малого количества воды инарисованной на стенке лодки, поэтому их истомляли жаждою.
Жажда и боль… Казалось, невозможно вынести столько боли,сколько вынес он, однако в его обожженном, обугленном, изломанном, растянутомна дыбе, окровавленном теле еще жил фанатично-стойкий дух истинного сынаИгнатия Лойолы. Именно этот дух не давал Бомелию проклясть себя за то, что невыпил еще там, во Пскове, на Немецком торговом дворе, яд, который был у негоприпасен именно для такого случая. Самоубийство – смертный грех, и сколь нибыли циничны игнатианцы во всем остальном, снисходительно позволяя себе икрасть, и лгать, и убивать, и прелюбодействовать, и, само собой разумеется,искушать малых сих, – наложить на себя руки они не могли. Поэтому Бомелиюприходилось смиренно ожидать смерти, изредка раздвигая синие, вспухшие, налитыегноем и сукровицею губы и шевеля пересохшим языком, чтобы не думая ответить на какой-нибудьочередной вопрос – и обречь на смерть очередного русского князя, воеводу,опричника… какая ему была разница?!
Однако тот же непреклонный дух накрепко замыкал его уста,когда речь заходила о Борисе Годунове. Чего греха таить – царевич Иван Иванович,ревновавший отца ко всем его любимцам, втихомолку ненавидел заносчивого,лукавого Годунова, который так и норовил обойти сына перед отцом, и ничего неимел бы против того, чтобы увидеть эту гордую голову отрубленной. ОднакоБомелий молчал, молчал, молчал…
Нет, вовсе не добрые чувства к молодому выскочке пробуждалиупорство и мужество дохтура Елисея. Он ни звуком не обмолвился бы о Годунове,даже если бы доподлинно узнал, кто именно расставил ему сети, кто обрек нанечеловеческие страдания. Бомелий, звездочтец, звездоволхвователь и провидец,на собственном горьком опыте убедившийся, что светила небесные никогда не лгут,надеялся, что они сказали правду, и пророча участь Годунова. Ведьсамонадеянному Бориске предстояло через четверть века не только воссесть нарусском престоле, но и грешным беззаконием своим ввергнуть Русь в пучину такихбедствий, такой кровавой смуты, от которой эта страна, как истово надеялсяЭлизиус Бомелиус, не оправится уже никогда.
С этой несбыточной, безумной, постыдной надеждой он и вручилнаконец душу своему немилосердному, лукавому иезуитскому Богу.