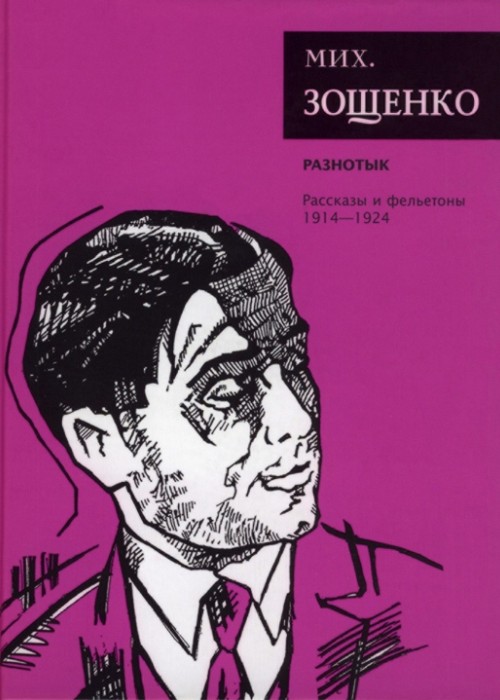Книга Том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице - Анна Александровна Караваева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А здесь — ничего похожего на все эти категории!.. Огромный дом уверенно и гордо поместился в самом сердце города. Площадь — обиталище театральных муз, возглавляемая Аполлоном, — не только ничуть не смущена этим соседством, даже совсем напротив — приободрена, оживлена: так всегда оживляет стариков молодой и сильный человек. Я не вижу в этом создании советского городского зодчества ни изощренной барочной сложности, сгущенной экспрессии, доходящей до эксцентричности, ни этого капризного тяготения барокко к диковинным и капризным формам, презирающим логику и целесообразность. Вместо голых и убогих поверхностей, как это было во времена конструктивистской архитектуры, я вижу выступающие эркера, создающие на стенах мягкую и живописную светотень.
Пять лоджий найдены, конечно, в итальянских дворцах раннего Возрождения, но они мало похожи на те уединенные, полные романтической неги уголки, опутанные плющом и зарослями роз. Нет, помещенные на облицованной мрамором, полной света поверхности, наши лоджии усиливают живописность этого колоссального фасада, придают ему глубину и теплоту. Лоджии украшены без тех филигранных и мелких вычуров, которые так нравились собственникам итальянских палаццо. Вглядитесь внимательно в рисунки лепнины[133]: в розетках угловых украшений вы увидите очертания пятиконечной красноармейской звезды, а среди цветов и плодов на барельефах вы увидите никогда доныне не появлявшийся здесь колос, тугой полный колос колхозной зажиточной жизни.
Да, я пристрастна к этой новой московской улице. Она радует меня и днем и вечером. Два дома-великана, пронзенные золотыми огнями, стоят над Москвой, как флагманские корабли флотилии на высокой воде, готовые идти в бой. Политый асфальт сверкает, как черное зеркало. Улица стала широкой, высокой, плечистой. Эта улица мне нужна, дорога и, близкая мне, как мысль и чувство, входит в мое душевное состояние. Улица и я — мы заодно.
Это было в первые дни жизни нашего метро.
Мокрым весенним ветреным днем я подошла к станции «Охотный ряд». Моросил холодный дождь. Бесцветное небо походило на скверно протертое зеркало. День был жалобный, как бы специально созданный для желчевиков и ипохондриков. Я открыла дверь и очутилась среди простора и белизны широкой площадки, стен, лестницы, которая словно звала спуститься по ней, испробовать ее, как пробуют свежий хлеб, привлекательный для глаза.
Матовые световые груши — как путеводители вдоль облицованного кафелем и мрамором коридора. Стены его были так чисты, светлы и гладки, что любой ребенок мог прижаться к ним безбоязненно, как к щеке матери.
На высоких подставках, словно гордо поднятые вверх могучими руками, сияли изголуба-белые шары, прозрачные, как спелые плоды, налившиеся соком. Они вели еще глубже вниз и сторожили ровный, как у чемпиона, бег двух лестниц. Спускающиеся и поднимающиеся люди стояли на ступеньках в вольно-беспечных позах живых изваяний — лестница несла их на себе сама, куда более могучая и надежная, чем все былинные богатыри, одолевавшие в одиночку тягу земную. Ничем особым не примечательное французское слово «эскалатор» входило здесь в сознание легко и свободно, как свое, русское слово.
— Папа, эска-ла-тор… вот он! — зазвенел веселый детский голос. Он выговаривал новое слово сразу правильно и чисто, как и все старые и молодые москвичи, в тот день попавшие на метро.
«Эскалатор» — имело еще одно значение: праздник советской техники. Каждая из этих ребристых, бегущих вверх и вниз ступенек, каждый винт и гайка — все было сделано на советских заводах, из советских материалов. И, войдя в вагон, каждый продолжал себя чувствовать в роли приемщика, который должен испытать новую природу вещей. Но и вагон так же смело мог выдержать тысячи любопытных взглядов и самых пристрастных осмотров. Неуязвимо блистал он никелем, лаком, стеклом, добротной кожей диванов, свежейшими расцветками стен, дверей, потолков, карнизов.
Пока километры, словно шутя, неслись навстречу, инженеры метро — двое молодых и один пожилой, ехавшие в поезде, — устроили летучий вечер воспоминаний.
— Вот здесь, под Охотным рядом, пришлось вдоволь повоевать с плывунами — довольно скверная штука, знаете ли… Вода, песок, темная силища стихии…
— Знаем, знаем! — раздались сочувственные голоса, — мы в этом уже грамотные!
Подшучивая и словно нарочно вспоминая больше всего о смешных «детальках» и «происшествиях», инженеры успели рассказать несколько случаев об яростной и непреклонной борьбе людей с плывунами, с дикой и беспощадной ордой подземных речек, речушек, ручьев, с обвалами, просадками мостовой, о предвиденных и нежданных-негаданных, просто как снег на голову, «подвохах» древней московской земли. Где-то хлещет вода, глыбы тяжелой, как чугун, земли обрушиваются на чьи-то плечи… Люди по грудь в ледяной воде, она сбивает их с ног, вот-вот она завладеет ими. Но люди несгибаемо прорываются вперед — старики, пожилые, юноши, девушки, рабочие, инженеры, техники. Перед упорством их бледнеют, свертываются, как лист под огненным дуновеньем, подвиги всех известных миру одиночек-богатырей и скандинавских викингов, воспетые былинами и сагами.
Перед тридцатитысячной армией борцов и строителей в недрах московской земли отступили, смирились все опасности. Эта подземная армия оказалась непобедимой. Две вещи составляли ее силу: радость работы для себя, когда человек знает, что прежде всего он, его близкие, его Дети будут пользоваться этими благами удобства, быстрого передвижения и красоты, которую он создает здесь вместе с другими. Второй секрет силы — большевистское слово. Оно давалось во всеуслышание всему народу, всей стране. Это было слово — обещание, призыв, гордость и клятва, ненарушимее которой не знала никогда история этой улицы.
И вот мы мчимся в сверкающем огнями поезде самого молодого, самого прекрасного в мире метро!
— А вот и наши проходчики! — вдруг сказал смеющийся голос пожилого инженера, и все они в вагоне замахали шляпами, кепками, платками двум девушкам в синем и белом беретах. Девушки стояли под одной из арок станции «Охотный ряд», скромные, мягко и застенчиво улыбающиеся круглолицые девушки. Вся поза их как будто говорила: «Ну… и ничего особенного! Что вы, право, так на нас смотрите?»
— Настенька, куда вы