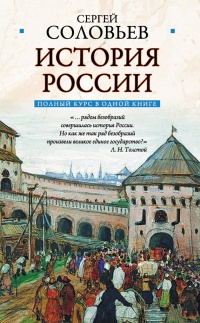Книга Мусоргский - Сергей Федякин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И очень дурно говорено об остальных — о Кюи, Мусоргском, Лодыженском, Катенине и Щербачеве. Особенно — о «какафонисте» Мусоргском, о цикле «Без солнца». Ларошу увиделось, что без музыки стихи Кутузова «гораздо музыкальнее». А то, что сделано Мусоргским, названо «музыкой одиннадцатой версты», с намеком на известное заведение для душевнобольных. Всего более критик поражен расхождением слов и музыки:
«Стихи, например (№ 3-й), воспевают весну и любовь. „Все тихо. Майской ночи тень…“ Ничего особенного тут нет, но все мило и благозвучно, пока нет композитора. Является композитор — и, как бы манием волшебного жезла, меняется декорация. С клавишей аккомпанирующего фортепиано льется какой-то поток музыкальных нечистот, точно девочка в пансионе разбирает новую пьесу, не разглядев, сколько бемолей у ключа. В других романсах есть вещи еще более курьезные. Так, в пьесе „Скучай; ты создана для скуки“ находятся два стиха: „Приветам лживым отвечая на правду девственной мечты“, где „девственная мечта“ изображается полнейшим разладом между правою и левою рукою: между ними происходит, так сказать, маленькая гармоническая драка».
Как ни странно, за ответ Ларошу взялся Голенищев-Кутузов. Он давно уже почитался в стасовском окружении талантливым «тюфяком», так что этот порыв был явным желанием встать на защиту если не новой русской школы, то, по крайней мере, Мусоргского. Увы, критический опыт Кутузова так и не будет закончен, останется лишь в черновиках. Но если эти отрывистые строки склеить в нечто последовательное, набросок будет-таки походить на отрывок из статьи. Один ее эпизод бросает особый блик на самую суть спора:
«Странно и смешно сказать, г. Ларош ужасается противоречием между музыкой романсов и их текстом! г. Ларош обвиняет г. Мусоргского в отсутствии реализма и правды в звуках. — Как горячий сторонник нового музыкального направления, принятого композиторами так называемой „могучей кучки“, я радуюсь этому косвенному признанию ее принципов со стороны столь закоренелого противника, как г. Ларош, но как автор стихотворений, избранных г. Мусоргским для своих романсов, я не могу не заметить, что на первый раз реализм и правда в музыке…»[196]
Кутузов прервал свой критический опыт на самом интересном месте. Должна ли музыка точно соответствовать содержанию слов? Даже и в чисто словесном искусстве буквальное содержание фраз и та интонация, с какою она произносится, может разниться. Одну и ту же фразу можно произнести и с горечью, и с иронией, и с тайной радостью… Иногда прямой смысл слов и та интонация, с какою они произносятся, могут быть совершенно противоположными. XX век будет знать много примеров такого поэтического слова, и даже в предельном его выражении. И когда русский эмигрант, поэт Георгий Иванов писал о том, что «не помнит» Россию, что и не хочет ее помнить, его стихи могли возмутить только людей, не способных слышать интонацию:
Разве чуткое сердце не способно услышать, что когда поэт говорит «нет», его сердце мучительно сжимается и замирает от одного воспоминания: «Березы, дымки, огоньки»…
Голенищев-Кутузов всегда тяготел к «традиционности» в самом прямолинейном смысле этого слова. И не только в стихотворной форме, но и в эпитетах, в образах. Он редко удивляет новизной своего слова. Мусоргский не случайно правит его стихи, когда пишет музыку. Но и музыка призвана эту лирику преобразить в драму. Потому и могут расходиться непосредственный смысл фразы и та интонация, которую вносит музыка.
В своем мемуарном очерке о Мусоргском Кутузов припомнит один эпизод времен их доброго знакомства:
«Писал я в то время нечто вроде „Воспоминаний“ в отрывочной форме, без начала, без конца — словом, что-то крайне странное и бессмысленное. Между прочим было у меня описание Москвы, в котором первоначально заключались следующие стихи:
— Ну-с, это извольте непременно вычеркнуть и переменить, — заметил мне Мусоргский, когда я ему читал стихотворение. — Это бедно, вяло — силы нет!
Я, конечно, согласился и на следующий же день прочел ему те же стихи в измененной редакции:
Мы оба были в восторге».
Состарившийся, «помудревший» Голенищев-Кутузов уже не одобрял таких «мухоморов» ни в музыке, ни в поэзии. Он был прав: вычурный образ — это не сила, но слабость поэта. Произведение должно быть естественным — и в словах, и в интонации, и в образах. Но в еще большей мере он был не прав: истертые образы — не просто «не замечаются». Это хуже, чем отсутствие образа, поскольку вызывает досаду своей ненужностью. «Пестреет в стороне, как старый мухомор», — так все-таки можно увидеть Василия Блаженного. Его пестрые шатры и луковицы могут напомнить если не мухомор, то целый куст мухоморов. «Красою странною мой привлекает взор», — этой строки просто не существует. Она настолько банальна, что лишается даже того прямого смысла, который содержит фраза. Великий поэт может произнести фразу, которая будет держаться на грани банальности, но будет звучать совершенно по-новому. Этого дара Голенищев-Кутузов был лишен. И в незаконченном критическом опыте — подойдя к интереснейшей проблеме соответствия слов и музыки — не смог произнести далее ни слова. Мысль поманила издалека, но так и не сумела обрести хоть какое-нибудь словесное воплощение.
Ответил Ларошу В. В. Стасов. Его отпор более похож на уже привычную перебранку. Говорить впрямую, что новая русская школа — это замечательно, талантливо, значительно, давно не имело смысла. И сюжет статьи пришлось построить иначе: к чему может привести ограниченность вкуса «консервативного» критика и недобросовестность в скоропалительных обвинениях — в утрате интереса и к его позиции, и к тому музыкальному направлению, которое он защищает. Благо сам Ларош признал, что новая русская школа завоевывает новых и новых поклонников, — и разве не этим вызвана была его музыкально-критическая ругань…
* * *
В мае начнутся сомнения. Что-то смутило «généralissime». Мусоргский пытался вникнуть в его доводы, но сам, похоже, казался Стасову тем же упрямцем, каким и всегда был. Разговоры, обсуждения, размышления. «Бах» — по давней привычке — успевал общаться со всеми или беседуя, или в письмах. То Антокольский, то Репин, то Верещагин, то Голенищев-Кутузов с «Шуйским», то Римлянин, поглощенный поиском «Сборника народных русских песен» 1790 года, то Алексей Суворин, редактор «Нового времени». А тут и новые идеи по поводу собственной книги забрезжили. Той, что и название уже имела, и множество выписок для которой было заготовлено. Ну да, «Разгром», пересмотр ценностей. Но ведь и объяснение ложных авторитетов должно же какое-то быть. И вдруг подумал, не включить ли сюда очерк с названием «Публика»? Дать своего рода историю «публик» разных эпох, разных народов, то есть дать историю мнений, историю ощущений. Что испытывали люди, стоя перед картиной, скульптурой, зданием, слушая музыку? И сама идея была свежа, и как бы она могла прозвучать в книге! Но ведь сколько сил нужно положить на это! Он перебирал в памяти мемуары, путешествия, записки, художественные биографии, авторов давних, авторов-современников, авторов разных континентов. И всё перечитать, из всего извлекать эту «публику»! Задача была неподъемная.