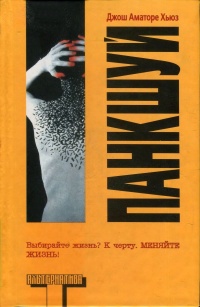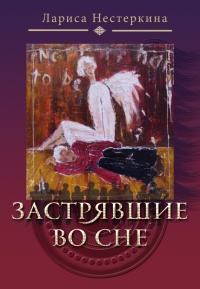Книга В поисках утраченных предков - Дмитрий Каралис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я спускаю для острастки курок, и дробинка чмокает сырую землю в метре от компании. Теперь Юджи бегает вдоль сетки забора и дает понять, что если она сейчас найдет дырку, то полетят клочки по закоулочкам. Я вновь резко взвожу рычаг пружины и вставляю дробинку.
Компания вскакивает и, матерясь, торопливо рассовывает по карманам аптечные пузырьки. Только действуя решительно и беспощадно, можно отвадить алкашей от распивания возле моего забора настойки боярышника. Я целюсь в груду пустых коричневых бутылочек возле старого валуна и спускаю курок: «Дзинь!» Вновь взвожу затвор и вставляю пульку-дробинку. Причем молча и не спеша — так легче сойти за непреклонного психа.
Компания хрипло матерится, обещает устроить мне веселую жизнь и поспешно освобождает полянку, где в детстве я с соседскими дачниками играл в штандер и «картошку».
Я несу ружье в дом, и Юджи продолжает жалобно лаять на него. Генная память!
…С некоторых пор и я стал чувствовать ее толчки — они приходят неожиданно и стихийно. Они уносят меня во времена седой старины, одаряя роскошными картинами битв и степенных событий.
Рядом с домом — дуб, посаженный родителями в год моего рождения. Меня тянет касаться лбом его шершавой коры, обнимать ствол, и когда я валяюсь в газонной траве под его кроной, ко мне приходят видения прошлого, словно корни дерева, как некие датчики-провода, высасывают их из памяти земного шара. Это странное свойство дуба, посаженного моими родителями почти пятьдесят лет назад, я заметил давно и держу в секрете…
Неподалеку от дуба мы с женой посадили несколько кустов белых роз и оставшиеся от моей матери особые тюльпаны — с запахом, прятавшиеся в траве по углам участка. Тюльпаны пахли слабо, как выдыхающиеся духи в открытом флаконе, но пахли… Мать привезла эти тюльпаны с селекционного участка деда, из Тамбова. Она привезла их сразу после войны, когда деда уже не было в живых, а наша многодетная семья получила в Зеленогорске, тогдашних Териоках, участок под огород и строительство дачного домика.
С газоном бился три года. Подаренная шведским греком-однофамильцем трава взошла быстро, оказалась темно-изумрудного цвета и чрезвычайно густой. После стрижки футбольный мяч отскакивает высоко, но, пущенный накатом, ослабевает в своем движении и останавливается на середине поля.
Сбылась мечта идиота, насмотревшегося за границей на чистоту и порядок! Теперь хожу босиком, но приглядываюсь, чтобы не вляпаться в собачьи колбаски, которые Юджи без всякой системы может оставить на ухоженном газоне.
Казалось бы — овчарка! умнейшая из пород, а ведет себя, как поросенок: кто же гадит посреди лужайки! Отойди к забору, заведи себе специальное гадкое место и присаживайся там с выражением глубокой отрешенности на своей черно-рыжей собачьей морде. Сколько раз подводил ее за ошейник к месту экологического преступления и проводил воспитательные беседы — вроде, всем своим понурым видом дает понять, что сплоховала, и обещает не повторять ошибок. Под моим бдительным утренним надзором отбегает к дальним секциям забора, хрустит сухим малинником, поглядывает на меня: «Видишь, хозяин, выбираю место, как ты учил!», но ослабишь контроль, не доглядишь, и быстро навалит возле вишневых деревцев или одинокой яблони, где я брожу вечером, поглядывая, как учат философы, на небо и пытаясь обнаружить в своей голове глубокие умные мысли.
Нет, не поеду я в лес ловить гадюку и не буду стрелять ядовитой пулей в Колыванова, бывшего тележурналиста, а ныне крупного бизнесмена, втянувшего меня, как мальчишку, в разборки по поводу помещения, которое мы после него взяли в аренду у города. Пусть лучше я паду от руки постперестроечного наймита, чем мои потомки будут страдать от мысли, что их предок подстрелил в бандитских разборках человека.
Если паду я, стрелой пронзенный, то моим именем, возможно, назовут улицу или сразу две — в Петербурге и в Зеленогорске, на малой родине. Или поставят бюст на пыльной привокзальной площади, убрав неработающий фонтан, в котором я купался с окрестными пацанами в начале пятидесятых. Вот он, герой, принципиально не заплативший криминальным структурам двадцать тысяч долларов, которые они требовали с него за неотделимые улучшения помещения. Он создал Писательский клуб, Центр современной литературы и книги, в то время как все только охали да ахали по поводу сгоревшего особняка Шереметева, где размещался Дом писателя им. В.В. Маяковского. Взгляните на его решительное, но хитроватое лицо, обратите внимание на упрямую морщинку между бровей — это он послал подальше бандитов, предварительно усыпив их бдительность серией трехлетних переговоров.
Да, с этим Колывановым тоска. Теперь грозится продать долги людям более простого и линейного мышления. Поговаривают, он вообще собирается сваливать в Америку. Знающие люди объяснили, что продажа долгов ничего хорошего мне не сулит — придут отморозки и скажут: «Ты нам должен двадцать тысяч зеленых! Если не отдашь через неделю — включаем счетчик, по проценту в день! Понял, нет?»
И это при том, что я ему ничего не должен — ни по закону, ни «по понятиям».
И он, прекрасно зная об этом, имеет нахальство третий год трепать мне нервы, понимая, что у моего некоммерческого детища только одна «крыша» — закон, о котором даже милиция стесняется говорить всерьез… На испуг пытается брать, скотина. Но теперь меня, пожалуй, хрен возьмешь…
Я ложусь на траву под дубом с его корнями-датчиками, глубоко уходящими в глинозем Карельского перешейка, глажу собаку, которая тут же укладывается рядом, и думаю о том, что мой тамбовский дед Бузни никак не мог предвидеть, что выведенные им пахнущие тюльпаны окажутся на неведомом для него участке земли, столь ценимом его потомком.
Не мог знать профессор Бузни и другого: как погибнет в сорок третьем восемнадцатилетним пареньком его первый внук Лев при форсировании Днепра, как погибнет в пятидесятом на геодезической практике его второй внук — курсант арктического училища Бронислав, как умрет в пятилетнем возрасте из-за врачебной ошибки в голодном сорок восьмом внук Сашенька, названный в его честь… Не мог знать степенный Александр Николаевич и про блокаду Ленинграда, которую переживет его любимица Шурочка с малыхой-дочкой на руках, отправив старших детей в эвакуацию, а ее усатый муж Колька Каралис будет гонять под обстрелом поезда в осажденный Ленинград, и в сорок шестом получит двадцать соток земли вместе с финским погребом, в котором и будет жить, сняв с него земляную засыпку, вместе с Шурочкой и детьми, пока не выстроит домик из двух комнат и веранды.
Бруски с остатками маскировочных пятен, которые он вывезет с линии Маннергейма и, сбив скобами, сложит на участке, разворуют в первую же зиму, и домик придется строить лет пять из случайного материала.
Не мог дедушка при всей своей учености знать про участок в бывшем Великом княжестве Финляндском, на котором теперь растут его пахнущие селекционные тюльпаны и лежит в раздумьях неведомый ему внук с овчаркой Юджи, собираясь докопаться до его прошлого.
Я поглаживаю собаку и пытаюсь прикинуть, часто ли закончившим свой земной путь разрешается узнавать о земных делах? Только ли в Духов день, когда души усопших спускаются на землю? Или чаще? И если чаще, то от чего это зависит? И в каком, так сказать, объеме дают сводку о земных делах? Вот, например, знает ли мой бородатый дедушка Бузни, что я ищу следы его жизни, и как он относится к моим розыскам?