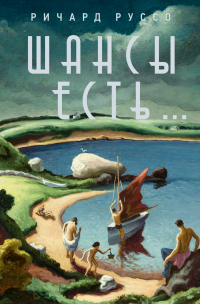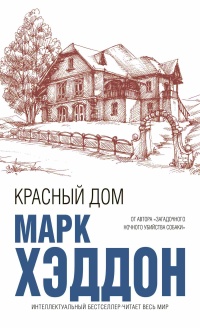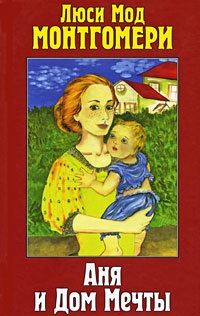Книга Эмпайр Фоллз - Ричард Руссо
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Потому что ты из тех людей, у кого никогда не получается надежно скрыть свое неодобрение.
Майлз вздохнул. Вероятно, Шарлин права. То же самое ему не раз говорила Жанин. До чего же странно, однако, то, как тебя воспринимают другие люди. Майлз всегда считал себя образцом толерантности.
Отец марк, возвращаясь с обхода лежачих больных из его паствы, столкнулся с Майлзом; тот, стоя позади церкви Св. Екатерины, пялился на колокольную башню со шпилем. В детстве Майлз был заядлым верхолазом, настолько бесстрашным, что его мать столбенела от ужаса. Приготовив ужин, она выходила позвать его в дом и всегда искала сына на уровне земли, к его вящему удовольствию, – ему нравилось окликнуть ее с высоты, вынуждая поднять голову и обнаружить сына среди ветвей под голубым небом, и ее узкая ладонь мгновенно тянулась прикрыть разинутый рот. В ту пору Майлз думал, что у матери плохо с памятью, если она каждый раз ищет его на земле, когда он то и дело поднимается в небо. Став отцом, он понял, как ей, наверное, было страшно. Она не смотрела наверх, потому что вокруг было слишком много деревьев, слишком много ветвей, слишком много опасностей. Лишь когда Майлз ловко спускался вниз и спрыгивал на ноги, у нее получалось улыбнуться, хотя она и ругала его и требовала обещания, которого он все равно не исполнит. “Ты прирожденный верхолаз, – говорила она по дороге домой. – Каких высот ты достигнешь, когда вырастешь! Аж дух захватывает!”
Теперь у Майлза захватывало дух – практически при любом подъеме. В какой-то момент своей жизни он начал до жути бояться высоты, и от мысли о покраске башни у него подгибались колени.
– Когда я был маленьким, – сказал отец Марк, – я думал, что Бог живет там наверху.
– В башне? – спросил Майлз.
Отец Марк кивнул:
– Мне казалось, когда мы поем гимны, мы зовем Его спуститься к нам. Конечно, мы именно это и делали – взывали к Нему. Но Его буквальное присутствие согревало.
Мужчины пожали друг другу руки. Майлз уже переоделся в заляпанную краской одежду, но за работу еще не принялся, и рука у него была сухой. Небо, пока он добирался из ресторана к церкви, угрожающе потемнело.
– Сам Господь всего в нескольких этажах от нас… так близко.
– А я как раз думал, как башня далеко от нас, – признался Майлз. – Правда, я размышлял о покраске.
– В этом вся и разница, – заметил отец Марк.
– На самом деле я размышлял не столько о покраске, сколько о том, как бы не рухнуть с этой высоты.
Любопытно, подумал Майлз. В детстве его, как и отца Марка, радовала воображаемая близость к Богу, тогда как взрослые люди – возможно, потому, что их помыслы редко бывают чисты, – находят утешение в отдаленности Всевышнего. Хотя Майлз не назвал бы свои помыслы нечистыми, он предпочитал представлять Господа всеблагим, а не всезнающим. Ему нравилось воображать Бога похожим на свою мать, нагруженным слишком многими обязанностями и слишком измотанным, чтобы ни на секунду не спускать глаз с шустрого мальчонки, но из любви к ребенку и боязни за него при каждом удобном случае проверявшим, как он там. Разве это так уж глупо? У Господа наверняка имеются и другие проекты, кроме “Человека”, как и у родителей куча дел, кроме воспитания детишек. В воображении Майлза Господь, улучивший наконец минутку вновь обратить внимание на детей своих, качает головой и бормочет: “Боже правый, опять они чудят”. Задерганный Господь и, наверное, ошарашенный тем, сколь многие из чад его влезли на деревья с тех пор, как он в последний раз бросал на них заботливый взгляд. Господь, что ладонью зажмет приоткрывшийся рот – из страха за ребенка: силы небесные, пацан вот-вот себя покалечит! Господь, который вдруг, сам того не ожидая, испытывает гордость: аллилуйя, мальчик и впрямь верхолаз!
Забывчивое, витающее в облаках божество, признавал Майлз. Впрочем, когда Господь обращает пристальное внимание на своих проказливых детишек, они обычно заняты кое-чем похуже, нежели лазание по деревьям.
Если такой Бог и существовал и если он когда-либо опасался, как бы Майлз ни причинил себе вреда, теперь ему уже не о чем волноваться. Сколь бы многообещающим ребенком Майлз ни был, ни одной вершины он так и не покорил, и теперь, в сорок два года, он так боялся высоты, что подолгу топтался у стальных дверей стеклянных лифтов, подавляя желание уйти прочь и мешая другим войти в кабину.
– Мы же договорились, башня – не твоя забота, – сказал отец Марк.
– Вроде договорились.
Изначально идея Майлза состояла в том, чтобы самому покрасить здание церкви, а на башню кого-нибудь нанять и таким образом сэкономить приходу кучу денег, но оба подрядчика, с которыми он разговаривал насчет покраски башни, запросили за работу столько, сколько стоило бы выкрасить церковь целиком. Рассердившись на Майлза, намеревавшегося взять на себя легкую и безопасную часть работы, они дали ему понять: то, чего не хочет делать он, не хочет никто, а значит, придется раскошелиться. Их правота была для Майлза как удар под дых.
– Беда в том, – признался Майлз своему другу, – что каждый раз, когда я смотрю вверх, чувствую себя виноватым.
– А ты не смотри вверх.
– Отличный совет от духовного лица, – сказал Майлз, снова задрав голову, и в этот момент почувствовал, как на щеку упала капля.
Отец Марк тоже поднял голову, и на него тоже закапал дождь.
– Идем в ректальный дом, выпьем по чашке кофе, – предложил он. – Заодно расскажешь о своем отпуске.
* * *
С тех пор как младшеклассник Майлз перепутал “ректорский” с “ректальным”, отец Марк – хохотавший до слез вместе с Грейс Роби – предпочитал этот детский термин, хотя порой он был не совсем уместен. К примеру, тогда же, в начале лета, по окончании мессы отец Марк пригласил прихожан “угоститься лимонадом в компании с ним и ректором отцом Томом на лужайке за ректальным домом”. Ректорский дом при Св. Екатерине был одним из любимейших мест Майлза. Там было уютно и солнечно круглый год, тепло зимой, прохладно летом, но, возможно, благодарить за это следовало отца Тома – ныне пенсионера, по-прежнему проживающего в ректорском доме, – он никогда не пускал туда детей. Впрочем, мать Майлза тоже никогда не приглашали в гости, так что недоступность, вероятно, добавляла этому “ректальному” привлекательности. Все комнаты на первом этаже были просторными, с высокими потолками и большими окнами без занавесей, что позволяло прохожим подглядывать иногда за жизнью и бытом привилегированных обитателей дома. В столовой, окнами выходившей на улицу, за дубовым обеденным столом могли поместиться человек двадцать, однако когда Майлз с матерью субботними вечерами после исповеди проходили мимо, то в столовой они видели лишь отца Тома, величественно восседавшего во главе стола, и хлопотавшую вокруг него экономку миссис Домбровски. В то время в доме проживали два, иногда три священника, но по субботам отец Том любил ужинать рано, не дожидаясь, пока пастор помоложе и рангом пониже управится с возложенной на него обязанностью исповедовать по вечерам. Мать Майлза каждый раз, минуя окна ректорской столовой, роняла: “Как это грустно”, Майлз же не видел ничего особенного в происходящем и не мог понять, что так расстраивало его мать. К тому времени, когда они возвращались домой, отец Майлза, прикончив сэндвич, уже направлялся пешочком к ближайшему питейному заведению.