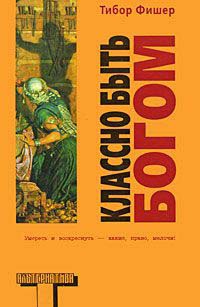Книга В.Н.Л. Вера. Надежда. Любовь - Сергей Вавилов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Понял… – высокомерно ответил я и тут же пожалел. Высокомерие рождалось трезвостью, а сегодня трезвость – не норма жизни. Да и не столько пьян был тёткин муж – разгорячён, да…
Он говорил правду: не декларируя, даже стесняясь этого, мы все тряслись о своём благополучии. Мы отказывались от жизни, если она была горькой на вкус. И мы, да, как мартышки, заладили: рок-н-ролл, стихи… Мы хотели быть героями, но в мягкой, приятной форме. Музыка… Поэзия. Под танки никто из нас бросаться не собирался. А если и проскакивала эта мысль – нам было лень идти, записываться, куда-то ехать…
У меня был один знакомый. Лет сорока с куцым хвостиком. Сосед по дому, потом они переехали… Пару раз мне довелось с ним выпивать. А воевал сосед в Сербии, на её, Сербии, стороне! Добровольцем. Поджарый, с сухими, сильными мышцами, он сидел за столом, голый по пояс. Между нами торчала то ли вторая, то ли третья уже бутылка… Его ежедневный рацион. После полбутылки и до открывавшейся третьей его было интересно слушать. Он рассказывал про войну, про сербские обычаи, про кровожадность мусульман и про сербскую ответную кровожадность. Много – про природу Сербии… Ему удавалось написать Сербию избранным Богом, благословенным краем. Ещё язык – лишённый русской певучести, угловатый… И очень красивый в то же время… Но странно не это, странно то, как я чувствовал себя с этим человеком. Я был не нюхавшим пороху и кулака пацаном, желторотиком. Хотя сам рассказчик, прерываясь и наполняя рюмки, всё время говорил обратное. «Хороший ты, – говорил, – парень. Молодец!» Я-то знал, что никакой я не молодец. Очарованный его рассказами, я тоже должен был идти в добровольцы…
Всё остальное – геройство в мягкой, как туалетная бумага, уютной форме…
Георгий? Георгий попал! Из всей нашей рок-н-ролльной братии он и выбрал самый верный объект для огня. Самым верным объектом был я! Макс – нет. Макс не мечтал быть героем и любил музыку. Музыка была его целью, для меня – средством… И я не знал, средством для достижения чего!
– Ну думай, друг дорогой, – хлопнул меня по плечу Георгий, закапывая в горе окурков ещё одну папиросу.
Мы с Максом остались на крыльце.
– Забей, – отозвался наконец он. Что-то заметил, значит, по моему лицу.
– А чего, Макс? И тебя задело? – задал я вопрос, в котором Макс почему-то не прочитал издёвки.
– Нет. Если бы меня задело, я бы что-то изменил…
– Намекаешь?
– Намекаю… – Макс посмотрел вдаль, обернулся и, минуя мой взгляд, направился к двери.
Я не пошёл за ним. Я смотрел на уплывающие вдаль холмы, на дома, сползающие вниз по горбатой улице…
– Кончается зима, – пробормотал я. И мне самому, как со стороны, почудилось, будто этими словами я подвёл какой-то итог. Было тихо. Из дома доносились приглушённые звуки застолья. В остальном – было тихо. Мне захотелось закричать – разбудить спящие зимой холмы и пространства… Людей и собак… «Кончается зима» – это снова жизнь и надежда. Это новорождённая зелень холмов. Это тысячи и тысячи новых любовей, песен и расстояний… Накопленные за зиму питательные соки прорастают весной.
Я не торопил весну – я ничего не накопил за зиму… Мне нечего было отдать весне, потому как я был пуст – как барабан или безъязыкий колокол. Никаких любовей… Песен. Расстояний.
Я подвёл итог, и мне стало не по себе. Мне казалось, что если я закричу – меня никто не услышит.
Георгий говорил другие слова. О другом. Но, сам не зная того, пусть боком, рикошетом, задел то, в чём я не признавался даже самому себе. Он обвинял меня в безделье, но на это у меня нашлись бы десятки объяснений. Обвинение в безделье же родило во мне другое, более глубокое обвинение – в бездействии! И возражений на это я не находил.
Я открыл дверь. Пространство за ней вернуло в реальность голосами и запахами пищи. Потоптавшись в прихожей, я заметил свою куртку, горбатившуюся поверх чужой одежды. Я говорил – мы с Максом зашли последними.
Я протянул руку. Сдёрнул куртку с вешалки. И, всовывая на ходу руки в кожаные рукава, пошёл вон из этого дома – виноватым.
Катя позвонила мне накануне похорон. Справлялась о дате и грустно оправдывалась, что не пойдёт. Потом поинтересовалась, доел ли я котлеты. «Да, которые в латке». Завершила интригующим и непонятным: «У меня всё по плану!» Что за план? Так, погоняв по телефонным проводам холостые слова, повесили трубки.
Я обещал ей не звонить и думал, что мне удастся это без труда и осложнений. Сейчас, вернувшись с поминок, меня так и подмывало набрать её номер. Объективных причин для этого не было. Больше всего на свете я боялся делиться с женщинами своими слабостями. Поэтому тут же отшвырнул за шкирку неумную идею звонка. Тут Катя не в помощь.
Выходя с поминок я, кажется, хотел что-то сделать. До автобусной остановки добирался быстрым шагом, потом побежал, насколько это позволяла раскисшая погода. После – взлетел! Ага! В том-то и дело, что никуда я опять не взлетел, вдавливаясь очередным пассажиром в тесноту часпикового автобуса.
Оказался в ненужном месте в ненужное время… Чтобы посредством автобуса оказаться в ещё одном ненужном месте.
Я хотел что-то сделать… Я, дурак, вдаль смотрел, и вдруг захотелось вширь – о, как проняло!
Улица давно стемнела, а я, не раздеваясь и не зажигая свет, ходил по комнате. Сидел на кровати. Если я разденусь или хотя бы включу лампу, беда, происходящая со мной, рассеется. Включу лампу – точно сниму куртку и ботинки. Ну а сниму куртку – ещё вернее включу лампу. Беда, происходящая со мной, рассеется. «Сделай ещё больнее… Хорошо будет», – шептали мне её губы, и я делал ещё больнее. Она всегда знает, о чём говорит.
Я рывком открыл ящик письменного стола. В нём лежали документы. Паспорт, конечно, сверху. Жалкого уличного фонаря было достаточно, чтобы не растеряться в темноте.
В паспорте – пластиковая карточка с моими деньгами. Капиталами. Финансовыми излишествами. Да и деньги за Краснодарскую квартиру семейная пара перечисляла сюда же.
Сунув паспорт в карман куртки, я загрохотал ключами. Хлопнув дверью, засвистел, перевирая мотив… «Прощай, прощай… Уходят поезда. Мы расстаёмся навсегда под звёздным небом января». Я нарочно придумал свистеть именно её – жестокая песня удерживала от обдуманных и оттого неверных шагов.
Вокзал был практически пуст. Редкие шаги и голоса гулко взлетали к потолку. Когда кассирша ответила мне: «Есть на завтра и на двадцать седьмое», – я всё-таки струсил.
Двадцать седьмое – это почти через неделю. Это лишние объяснения не только с Катериной, но и самим собой. «На завтра» – это чересчур. Это слишком. Это быстрее, чем я ожидал. Надо подготовиться! Поэтому я негромко и вежливо произнёс:
– На завтра, пожалуйста, – и протянул в окошко деньги.
– Проверяйте: плацкарт… Санкт-Петербург… время прибытия… – начала повторять она сквозь стекло, и от её равнодушных, металлических слов мне стало свободно и почему-то жарко. Мягкими от волнения, жидкими руками я принял из окошечка паспорт. Из него, неоспоримые, торчали корешки билета. И они были реальнее, чем все мои порывы и страхи, которые я в конце концов мог развеять и развенчать. Порывы и страхи задокументированы. А слабостями документированными разбрасываться я не привык.