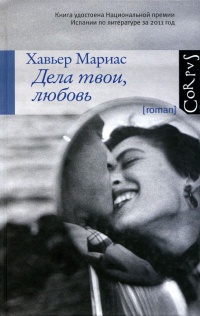Книга Белое сердце - Хавьер Мариас
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я счел последнее замечание («число их почитателей все время растет») некоторым преувеличением, если не сказать больше, а потому перевел все точно, кроме этой части (ее я просто опустил, вычеркнул), — и снова замер, ожидая реакции Луисы. Она опять быстро скрестила ноги (эти золотистые круглые колени!), но больше ничем не показала, что заметила мою вольность. «Может быть, — подумал я, — она ничего не имеет против?» Но в то же время мне казалось, что я по-прежнему ощущал затылком ее удивленный и даже возмущенный взгляд. Я не мог обернуться и взглянуть на нее — вот беда!
Высокая гостья оживилась:
— Я с вами согласна. Люди в большинстве своем любят потому, что их принуждают любить. Посмотрите на отношения между мужчинами и женщинами: сколько пар стали парами только потому, что один из двоих, только один, вбил себе в голову, что они должны быть вместе, и заставил другого захотеть того же.
— Заставил или убедил? — спросил ее собеседник, и было заметно, что он был доволен своим уточнением, поэтому я ограничился тем, что воспроизвел его слова так, как они были сказаны. Бесчисленные ключи в его руке прямо-таки грохотали (сразу видно, что он нервный человек), и шум мешал мне разобрать слова, а переводчику нужна тишина, чтобы он мог выполнять свои обязанности.
Британская гостья снова посмотрела на свои длинные ухоженные ногти, но на сей раз, скорее, с неосознанным кокетством, чем досадливо, как раньше. Она предприняла еще одну безнадежную попытку ниже натянуть юбку на колени.
— А вы полагаете, что это не одно и то же? Вопрос ведь только в том, что было раньше, а что потом, поскольку первое неизбежно и неминуемо превращается во второе, а второе — в первое. Все это — faits accomplis (свершившиеся факты), как говорят французы. Если стране прикажут любить своих лидеров, она в конце концов придет к убеждению, что любит их, и уж произойдет это, во всяком случае, скорее, чем если такого приказа не будет. Только приказать мы не можем, вот в чем проблема.
Я подумал, что ее последние слова могут оказаться слишком резкими для демократического слуха нашего высокопоставленного лица, и мгновение поколебавшись и бросив взгляд на куда более привлекательные ноги той, что контролировала меня, решил все-таки не переводить «вот в чем проблема». Ноги не шелохнулись, но я понял, что напрасно деликатничал: испанец с силой грохнул ключами по низкому столику и воскликнул:
— Вот в чем проблема, вот в чем наша проблема: мы не можем приказать! Вы знаете, я не могу, как когда-то наш диктатор, Франко, устроить массовую акцию поддержки: собрать людей на Пласа де Орьенте (здесь я перевел «на большой площади», так как посчитал, что название площади ничего не скажет англичанке), чтобы они восторженно приветствовали нас, я хочу сказать, наш кабинет, ведь мы только составная часть кабинета, правда же? Он делал это всякий раз, когда ему хотелось, любой повод для этого годился, а теперь говорят, что людей заставляли приходить и приветствовать его. Может быть, это и так, но правда и то, что площади были заполнены людьми. Посмотрите фотографии, документальные фильмы — они не лгут, — наверняка не все приходили по принуждению, особенно в последние годы, когда репрессии уже не были такими жестокими, разве что государственным чиновникам в случае отказа могло грозить наказание или увольнение. Многие из тех кто приходил на площадь, были уже уверены, что они сами этого хотят, а все почему? Да потому, что их десятилетиями заставляли делать это. Любить для них стало привычкой.
— О, — воскликнула его собеседница, — я вас так понимаю! Я многое отдала бы за подобную акцию признания. Но, к сожалению, в нашей стране народ выказывает такое единодушие только в акциях протеста. Очень обидно слышать, как на нас нападают, даже не слушая нас и не читая наших законов, оскорбляют весь кабинет, как вы правильно говорите. И эти их оскорбительные плакаты! Все это очень обидно!
— А шутки, которые они отпускают в наш адрес? — вставил наш лидер, но я не перевел его слова, потому что, во-первых, мне это замечание не показалось существенным, а во-вторых, я просто не успел бы перевести — британская гостья продолжала жаловаться, не слушая собеседника:
— Разве они не могут хотя бы раз высказать нам свое одобрение? Иногда я спрашиваю себя: неужели мы не сделали вообще ничего хорошего? Я слышу слова поддержки только от членов моей партии, и конечно же, я не могу быть уверена в их абсолютной искренности. Только во время войны мы действительно чувствуем поддержку, не знаю, задумывались ли вы над этим, но только тогда, когда мы вступаем в войну, только тогда…
Она задумалась, не закончив фразу, словно вслушиваясь в долетевшие из далекого прошлого приветственные крики, которым уже не звучать. Потом застенчиво и осторожно сдвинула ступни и еще раз с силой потянула юбку вниз, умудрившись каким-то чудом опустить ее пальца на два. Мне совсем не нравился тот оборот, который, по моей вине, приняла беседа. Боже мой, подумал я (мне хотелось бы поделиться этими соображениями с Луисой): эти политики-демократы, оказывается, тоскуют по диктатуре! Для них любой их успех и любое выражение одобрения всегда будут лишь бледным подобием их потаенной тоталитарной мечты — мечты о единодушии и всеобщем одобрении, и чем ближе они к осуществлению этой недостижимой тотальности, тем больше их эйфория. Они превозносят свободу мнений, а на деле эта свобода для них — проклятие, нож острый! Я добросовестно перевел все, что сказала британская гостья, за исключением ее последнего замечания насчет войны (я не хотел, чтобы наш лидер ухватился за эту идею). Вместо этого я вложил в ее уста следующую просьбу:
— Извините, вы не могли бы убрать ваши ключи? Я была бы вам весьма признательна: в последнее время меня очень раздражает шум.
Ноги Луисы оставались в прежнем положении, и поэтому, после того, как наше высокопоставленное лицо извинилось, слегка покраснев, и сунуло тяжеленную связку в карман пиджака (от такой тяжести подкладка, наверное, вся продырявилась), я осмелел и снова решился обмануть его доверие. Он сказал:
— Да, да, вы правы: если мы что-то делаем хорошо, никто не устраивает демонстраций, чтобы и мы узнали, что они остались довольны, — а я решил перевести беседу в другое русло и затронуть личную тему, которая казалась мне менее опасной и более интересной, поэтому на безукоризненном английском языке произнес следующее:
— Могу я задать вам один вопрос, если, конечно, он не покажется вам слишком дерзким? В личной жизни вы принудили кого-нибудь полюбить вас?
Я тут же понял, что вопрос был непростительной дерзостью, тем более что он был адресован англичанке. Я был уверен, что уж на этот раз Луиса не смолчит, что она выполнит свой долг: разоблачит меня и изгонит с позором, что сейчас она поднимет крик («Что вы себе позволяете! До чего мы дошли! Опустились до фарса, это не игрушки!»). Конец моей карьере. С замиранием сердца я взглянул на великолепные ноги. У их обладательницы было время, чтобы обдумать ситуацию и принять решение: британской гостье потребовалась не одна секунда на размышление. Она смотрела на наше высокопоставленное лицо оценивающим взглядом, полуоткрыв рот (слишком много помады, даже в щели между зубов попала), а он, не понимая причин затянувшегося молчания, достал еще одну сигарку и прикурил ее от предыдущей, что, на мой взгляд, произвело очень плохое впечатление. Но благословенные ножки Луисы оставались в том же положении, они разве что слегка качнулись; я почувствовал, что она еще больше выпрямилась на своем убийственном стуле, словно задержала дыхание. Может быть, она больше боялась возможного ответа, чем уже непоправимого вопроса. А может быть, подумал я, ей тоже интересно услышать ответ, раз уж вопрос все равно задан? Она меня не выдала, не разоблачила, не вмешалась; она молчала, и я подумал, что если она позволила мне это, она могла бы позволить мне все в течение моей жизни или в течение той половины жизни, которую мне еще предстоит прожить.