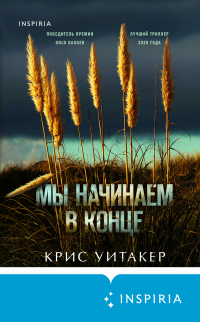Книга В чреве кита - Хавьер Серкас
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В субботу вечером я явился к Луизе домой с сумкой. Она встретила меня сияющей улыбкой; мы немного выпили, поболтали и отправились перекусить в ближайший ресторанчик. Прощаясь, мы неопределенно договорились встретиться еще как-нибудь, но на следующей неделе Луиза позвонила мне по телефону, и в ту же пятницу мы ужинали в «Бильбао». После ужина мы пошли танцевать в «Бикини», и когда уже под утро, пьяные от музыки, алкоголя и желания, мы вышли на улицу в поисках такси, предчувствие весны, витавшее в застывшем ночном воздухе, развеяло все бессмысленные страхи. Я не сумел бы сейчас сказать, о чем мы тогда разговаривали, но помню, что я играл словами, каламбурил и вставлял латинские стишки, слегка покачиваясь, чтобы показаться более пьяным, чем на самом деле, и умирал от смеха, цитируя поэму голиардов, полную скрытых кошмарных непристойностей. В какой-то момент Луиза спросила, известны ли мне четыре фазы любви у римлян. Я ответил, что нет. «Visus», — начала перечислять она и посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Alloquium», — продолжила она затем и пальцами дотронулась до своих губ. «Contactus», — сказала Луиза и коснулась моего лица. «Basia», — и с этими словами она меня поцеловала. Когда она отстранилась от меня, улыбающаяся и счастливая, с горящими глазами, я после паузы спросил: «А какая у них пятая фаза?»
В ту весну я часто ночевал у Луизы. В мае мне позвонил Марсело и уговорил подать заявление на место ассистента, объявленное на конкурс, а поскольку конкурсный совет состоял только из членов кафедры, а сообщение Марсело равнялось заявлению, что я могу рассчитывать на его поддержку, то я истолковал этот звонок как твердое обещание работы в университете. Я не ошибся. В начале июля состоялся конкурс, я выиграл его без всяких проблем, и в сентябре, послав к черту издателя, я подписал контракт на должность ассистента и приступил к преподаванию. Не мне одному повезло: в начале учебного года Луизе удалось сосредоточить все свои занятия в Барселоне, и она перестала ездить в Лериду по два раза в неделю. К тому времени мы уже месяц жили вместе в ее квартире на улице Индустрия.
В июне мы поженились. И только тогда я познакомился с семьей Луизы, но лишь значительно позже мне открылась причина подобного промедления, о чем в тот момент я не догадывался, а Луиза так мне никогда и не объяснила. С годами я начал думать, возможно несколько преувеличивая, что Луиза, не желая сама себе в этом признаться, в глубине души ненавидела свою семью; во всяком случае, она ее стыдилась и втайне ругала себя за отсутствие решимости раз и навсегда вычеркнуть из своей жизни все хлопоты и обязательства по отношению к семье, отнимавшие у нее столько времени. И, быть может, в каком-то смысле, в какой-то очень важной своей части ее жизнь представляла собой не что иное, как длительную, ожесточенную и, в конце концов, безрезультатную борьбу против всего, что олицетворяло ее семейство. Естественно, так я думаю сейчас, потому что тогда я видел в Луизе лишь уверенную в себе и безотказно-щедрую женщину, мучающуюся от добровольно взятой на себя обязанности ублажать постоянные требования семьи, запутавшейся в сомнениях и страхах постепенной деградации.
Ее мать, которую тоже звали Луизой, происходила из воинственного рода басков, в прошлом веке сколотившего немалое состояние за счет торговли сахаром и оружием на Кубе. Один из потомков этого семейства, Рамон Эсейза, в последней трети прошлого века обосновался в Барселоне, оставив после своей смерти целую торговую империю, постепенно сходящую на нет из-за никчемной инертности наследников и беззастенчивого воровства управляющих. Мать Луизы влюблялась бессчетное количество раз и отвергла руку многих претендентов, пребывая в уверенности, что никто ее не достоин и в то же время что она всегда успеет согласиться. Но после гражданской войны она вдруг с удивлением обнаружила, что молодость прошла, и панический страх остаться старой девой вынудил ее выскочить замуж за первого встречного — человека чуть моложе ее, тихого, угрюмого, набожного и недалекого, многие годы грызущего себя за то, что не сумел получить диплом врача и тем самым перекрыл себе доступ к тому общественному положению, которого, как ему казалось, он заслуживал. Все это вконец отравило жизнь ему самому, его собственной семье и семье моей тещи, чьи многочисленные братья с самодовольством и тщеславием состоятельных людей, живущих на ренту, безжалостно третировали его, ставя в упрек статус наемного служащего и до смешного маленький рост. В этом браке без любви моей теще пришлось забыть о беззаботной юности, протекавшей в окружении горничных в белоснежных наколках, с поездками на море и долгими путешествиями всем семейством, с нескончаемыми праздниками под луной и без счета тратившимися деньгами, и все потому, что плебейский менталитет ее мужа требовал от образцовой жены умеренности и воздержанности в привычках. Однако, овдовев и ощутив свободу от супружеской тирании, мать Луизы вдруг почувствовала внезапный ужас перед надвигающейся старостью и одновременно жгучую досаду за напрасно упущенное время и со всей алчностью, которую только позволяли ее изрядно подточенные силы и поступавшие от оскудевшего семейного состояния деньги, бросилась прожигать остаток своих дней.
Именно тогда я с ней и познакомился. К тому времени ей исполнился семьдесят один год, но в ее осанке знатной сеньоры, в тонком рисунке лица, светившегося гордостью за свою принадлежность к роду разбойников и рантье, в ее изящных белых руках, не испорченных старческими пятнами, в прозрачной синеве дерзких глаз и в обманчивой гладкости кожи, достигаемой непрекращающимися усилиями массажистов, — во всем этом явно проглядывали живые черты ее далекой юности. Она жила в старинной квартире, занимавшей целый этаж полуразвалившегося семейного особняка в нижней части Виа Лайетана. Ее одиночество лишь иногда нарушала вялая болтовня с подругами и, время от времени, принужденное непростое общение с сыном и дочерью, не испытывающими к ней особой привязанности, а также молчаливое присутствие Кончи — угрюмой старухи-басконки, прятавшей лысину под ядовито-рыжим париком (она не получала за свой труд никакого жалованья и являла собой последнее живое напоминание о детстве моей тещи, проведенном в окружении прислуги). По правде говоря, фанатичное упрямство в нежелании признавать окружающую действительность превратило тещу за семьдесят с лишним прожитых лет во вполне симпатичную женщину, поначалу приятную в общении; но правда и то, что ее заполошная гиперактивность, бестолковая суетливость и непрекращающийся поток болтовни в попытках убедить собеседника — и прежде всего, себя саму — в существовании чуда, позволяющего ей сохранить вечную молодость, способны были кого угодно свести с ума и, в конце концов, подорвали ее собственное здоровье. С того момента, как я с ней познакомился, на нее все чаще, с удручающей регулярностью, накатывало беспощадное осознание своей дряхлости и повергало ее в состояние безграничного отчаяния, когда сторицей возвращались все неумолимые проявления ее истинного возраста. Тем не менее, подобные провалы носили лишь временный характер: период уныния проходил, и моя теща возрождалась к жизни, вновь охваченная яростным пылом, будто она втайне копила силы, чтобы с удвоенной энергией фальшивой молодости броситься в бой, исход которого, как она в глубине души хорошо понимала, предрешен заранее. Истовая религиозность, которую она притворно демонстрировала все годы супружества, в конце концов, привела ее к запоздалой набожности, скорее чисто внешнего свойства, а после смерти мужа свелась к привычке находить утешение в долгих часах прострации и к настоятельной необходимости мучиться угрызениями совести. Эта потребность стала для нее жизненно важной, ибо даже в периоды совершенного бездействия позволяла поддерживать иллюзию, что жизнь продолжается, поскольку давала возможность с головой погрузиться в сладкие муки раскаяния. Страсть к игре — теща неизменно подпитывала ее сражениями с одноруким бандитом и участием в лотереях, походами в казино и в игорные дома всех мастей, что часто оборачивалось сумасшедшими долгами, которые она была не в состоянии оплатить, — являлась для нее, возможно, просто наиболее эффективным инструментом самоосуждения, но в то же время очевидным результатом владевшей ею страсти к презренному металлу, всепоглощающей и парадоксальной, в силу того, что вдовство возродило в ней прежнее беззаботное отношение к деньгам, свойственное ей в двадцать лет, когда она не представляла себе ни их истинной стоимости, ни как с ними обращаться, но очень хорошо умела их разбазаривать лишь на то, что ее интересовало, а это были вещи, абсолютно лишенные всякой практической ценности.