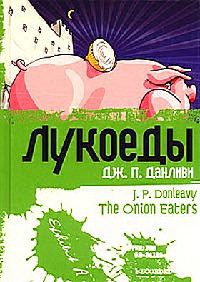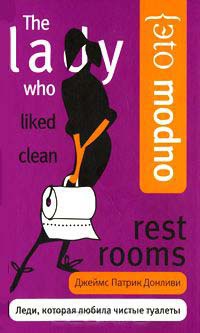Книга Рыжий - Джеймс Патрик Данливи
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Давай сделаем, как тогда в Йоркшире.
— Угу.
— Тебе еще нравится моя грудь?
— Угу.
— Поговори же со мной Себастьян, расскажи мне. Я хочу знать.
Себастьян подбирается поближе, прижимает к себе длинное белоснежное тело, размышляя при этом о мире за окном, за которым барабанит дождь. И люди скользят на мокрых булыжниках. На мгновение он замирает, когда мимо с грохотом проносится трамвай, полный епископов, в благословении поднявших руки. Мэрион судорожно гладит мой пах. Джинни Купер повезла меня тогда на машине в бескрайние поля Индианы. Мы остановились на самой кромке леса и затерялись в золотом пшеничном поле, уходившем за горизонт. На ней была белая блузка, и серые пятна растеклись под мышками, тень от ее сосков тоже была серой. Мы были тогда богаты. Настолько богаты, что казались бессмертными. Джинни все смеялась и смеялась, и на белоснежных зубах в ее аленьком ротике сверкала прозрачная слюна — в целом мире нет еды вкуснее. Страхи были ей неведомы. Она была и ребенком, и зрелой женщиной одновременно. Ее загорелые безупречные ноги, красивые руки извивались от бешеной жажды жизни. Она танцевала на продолговатом капоте пурпурного «кадиллака», и, глядя на нее, я думал, что Бог, должно быть, женского пола. Она прыгнула в мои объятья, опрокинула меня на землю Индианы; я распят на кресте. У раскаленного добела солнца каркает ворона, сперма бьет из меня струей, вырываясь в мир. Длинный «кадиллак» Джинни пробил заграждение на Сент-Луисском мосту, и в мутной воде Миссисипи ее машина выглядела сгустком крови. Все мы собрались тогда в Саффолке, штат Вирджиния, в то тихое летнее утро, когда медный гроб был аккуратно установлен в прохладном мраморном склепе. Я выкурил сигарету и загасил окурок о черно-белые плитки гробницы. Когда все машины разъехались, я зашел в женский туалет и увидел непристойные фаллические символы на деревянных дверях и серых стенах. Интересно, сочтут ли меня извращенцем? В свои замечательные каштановые волосы Джинни вплетала гардении. Я слышу грохот трамвая, Мэрион дышит мне в ухо. Мой живот дрожит, силы покидают меня. Мир погружен в тишину. Хлеба перестали тогда расти. Теперь они растут снова.
— Мэрион, я сегодня утром позанимаюсь в парке.
— Возьми с собой малышку.
— Коляска поломана.
— Возьми ее на руки.
— Она описает мне рубашку.
— Возьми непромокаемую пеленку.
— Как же я могу заниматься и присматривать за ней? Она свалится в пруд.
— Ты ослеп что ли? Я должна разгребать всю эту мерзость, хлам. Взгляни на потолок. А ты к тому же надел мой свитер. Я не хочу, чтобы ты носил его, потому что мне тогда нечего будет надеть.
— О Господи.
— И почему бы тебе не навестить мистера Скалли и не заставить его починить этот отвратительный сортир? Я знаю почему. Ты его боишься, вот в чем дело.
— Ничего подобного.
— Нет, ты боишься. Стоит мне лишь произнести его имя, и ты уже, как заяц, улепетываешь вверх по лестнице, и не думай, что я не слышу, как ты забираешься под кровать.
— Скажи мне, где очки от солнца? Мне больше ничего не надо.
— В последний раз их надевала не я.
— Они нужны мне позарез. Я категорически отказываюсь выходить без них на улицу.
— Поищи хорошенько.
— Ты хочешь, чтобы меня узнали? Ты этого добиваешься?
— Именно.
— Будь проклят этот дом размером с сортир. В нем грязно, как в хлеву, и все теряется. Я сейчас что-нибудь разобью.
— Не смей. Кстати вот омерзительная открытка от твоего дружка О’Кифи.
Мэрион размахивает открыткой.
— Ты должна следить за моей корреспонденцией. Я не хочу, чтобы она валялась, где попало.
— Твоя корреспонденция. Да уж, действительно. Почитай-ка.
Большими прописными буквами нацарапано:
«КЛЫКИ У НАС БЫЛИ КАК У ЖИВОТНЫХ».
— О Боже.
— Отвратительное чудовище твой О’Кифи, вот кто он такой.
— Что еще?
— Различные счета.
— Не ругай меня.
— Мне придется. Кто открыл кредит в Хоуте? Кто накупил виски и джин? Кто?
— Где мои очки от солнца?
— И кто заложил в ломбард каминный прибор? И электрический чайник?
— Ну послушай, Мэрион, давай сегодня утром будем друзьями. Солнце уже встало. И, в конце концов, мы ведь христиане.
— Вот видишь? Ты сразу начинаешь язвить. Ну почему мы должны все время ссориться?
— Очки, черт побери. Англичане вечно все прячут. Вонючий сортир, однако, скрыть не удастся.
— Прекрати эту хамскую болтовню.
— Тогда оставайся с сортиром.
— Когда-нибудь ты пожалеешь об этом. Грубиян.
— А ты бы хотела, чтобы всю жизнь я щебетал канарейкой, как диктор Би-Би-Си? Специально для тебя я выпущу в эфир серию передач под названием «Зеленая задница».
— У тебя в голове одни непристойности.
— Нет уж, нет, я — человек культурный.
— И к тому же из Америки, где все хромируют и натирают до блеска.
— У меня незаурядная внешность. По-английски я говорю, как аристократ. Одет безупречно.
— Ну и негодяй. И зачем только я познакомила тебя с мамочкой и папочкой?
— Твои мамочка и папочка думали, что у меня денег куры не клюют. А я в свою очередь думал, что у них денег куры не клюют. Оказалось, что ни у одной из сторон нет ни гроша, ни шиша, ни любви.
— Ложь. Сам знаешь, что это ложь. Ты первый тогда заговорил о деньгах.
— Ну ладно, давай ребенка. Просто невыносимо. И как мне только выбраться из этого дерьма?
— Выбраться? Тебе? Это я должна бежать отсюда. И это может произойти в любой момент.
— Ладно уж. Давай не будем ссориться.
— По-твоему, это так просто? И вел ты себя совершенно омерзительно.
— Я возьму ребенка.
— Можешь заодно сделать покупки. Купи у мясника немного костей, только не вздумай принести тошнотворную баранью голову. И смотри, чтобы Фелисити не свалилась в пруд.
— А я настаиваю на том, чтобы мы купили именно баранью голову.
— Осторожно закрывай дверь, утром она упала на почтальона.
— О Боже мой праведный! Только мне не хватало, чтобы на меня к тому же подали в суд.
Столпотворение на Мохаммед-Роуд. Грохот трамваев. Прачечная напоминает встревоженный улей. Увидеть бы их на скомканных простынях. И это было бы правильно. Теплое желтое солнце. Самая прекрасная страна в мире, в ней много водорослей, и водоросли эти — люди. Остаются здесь, чтобы умирать, и не умирают. Посмотрите на мясной магазин. Посмотрите на крюки, на которых стонет мясо. Мясник подрезает рукав разделочным ножом. За прилавком их целая орава.