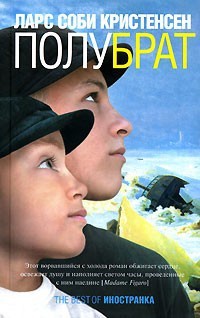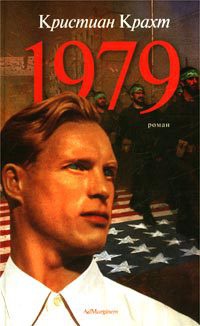Книга Цирк Кристенсена - Ларс Соби Кристенсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Не помешаю?
— Помешаешь.
Он все равно закрыл дверь и сел на диван. Посидел так некоторое время, потом спросил:
— Как у тебя с гитарой?
— Хорошо.
— Как там она называется? Фендеровский…
— Фендеровский «Стратокастер».
— Ну да. Фендеровский «Стратокастер». И она электрическая?
— Угу.
— Что учишь?
— Уроки.
— Молодец. Математику?
— Историю литературы.
— Без этого тоже не обойтись. Не буду тебе мешать. — Отец встал и тут же опять сел. — Ты аккуратно ведешь учет букетам, которые разносишь?
— Пожалуй, да.
— Пожалуй? Учет — штука точная, не то что литература.
— История литературы.
— Ты, например, знаешь, что такое дебет?
— Нет, папа.
— Дебет по-латыни означает «он задолжал». А значит, что такое кредит?
— Он не задолжал.
Отец долго смеялся.
— Непременно расскажу завтра в банке. Не возражаешь? Если я расскажу в банке?
— Нет, папа.
— Кредит означает «он ручается» и стоит в правом столбце, тогда как дебет стоит в левом. Вот, теперь ты знаешь.
— Да, папа.
— Так скажи мне, ты в дебете или в кредите?
— В дебете.
— В дебете? Правда? Ты задолжал?
— Я имею в виду, в кредите, папа.
— Будь у тебя приличная энциклопедия, ты мог бы просто почитать там. Про дебет и кредит.
Я ничего не сказал, только смотрел на буквы, которые плавали над столом, будто мухи в тарелке с серой водой, и руки у меня намокли просто оттого, что я тут сидел.
Отец грузно встал, последний раз в этот вечер, но у двери остановился.
— Что ты будешь делать с электрогитарой без усилителя? — спросил он.
— Можно присоединить к радиоприемнику.
— К радиоприемнику? Будешь играть на гитаре и слушать сводку погоды? Или новости рыболовства?
Отец опять рассмеялся.
Я промолчал, считая, что так будет лучше для нас обоих.
Но отец, когда решил, что посмеялся достаточно, сказал:
— Все ж таки подумай насчет энциклопедии. Ей усилитель не нужен.
Той ночью, когда мама с отцом улеглись, а Гундерсен, Свистун и Том Кёрлинг никак не могли угомониться, мне стало невмоготу, я тихонько спустился вниз и по белой лунной дорожке поспешил на Бюгдёй-алле, где по обе стороны высились черные деревья, как тощие призраки, вырезанные из угля. Шел я долго-долго. Сердце утюгом прожигало меня до мозга костей. Руки были мокрые, дождем вытекали из запястий. Наконец я остановился возле «Музыки и нот» Бруна. Что-то не так. Я шагнул ближе. Фендеровский «Стратокастер» из витрины исчез. Вместо электрогитары — испорченный букет, букет растоптанных гвоздик. Ценник был прикреплен к сломанному стеблю, но сумму зачеркнули, а вместо нее написали: 463 дня и 8 минут.
Другой ночью улицы Шиллебекка купались в ослепительном свете, хотя никакой луны на небе в помине не было. Я остановился на углу Сволдер- и Габелс-гате и смотрел на происходящее в лучах этого диковинного солнца. Кто-то снимал наши улицы на пленку. Тротуары засыпаны землей. Вместо автомобилей — лошади. Шторы во всех окнах заменили. Время прокрутили вспять, в минувший век. Рядом со мной появился какой-то человек. Репетитор. Голубой цветок в петлице завял. Он, стало быть, опять подошел ко мне и тем самым не сдержал моего клятвенного обещания, а именно что он больше не появится, — разве же теперь можно на меня положиться?
— Что здесь происходит? — спросил я.
— А ты не видишь? У тебя же отличное зрение?
Я сказал:
— Меня слепит.
— Тогда погоди, привыкни.
— Как?
— Всмотрись получше. Лови взгляды. Отыщи взгляд, который хочешь поймать. Другого способа нет.
И я всмотрелся получше и увидел тени, не сразу заметные в ярких лучах, незавершенные характеры, осторожные, странные, буйные, приветливые, застенчивые, гордые, озабоченные, гадкие, симпатичные, унылые и возбужденные, все эти диковинные винтики, стоявшие перед камерой.
— Кто они? — спросил я.
Репетитор положил правую руку мне на плечо.
— В один прекрасный день ты еще узнаешь их, мальчик.
— Как это?
— Это твои люди.
Мои люди?
Я не понимал, что он имеет в виду.
Но я их видел. И раньше видел. Не знаю, конечно, могли ли они видеть меня. По всей вероятности, нет. Потому что теперь яркий белый свет был направлен прямо им в лицо, а не мне. Я стоял с другой стороны.
— Вы знаете их? — спросил я.
Репетитор тихо рассмеялся:
— Ты не знаешь, кто я?
— Знаю. Вы репетитор в «Черной кошке».
Он опять тихо рассмеялся;
— Не только в «Черной кошке», мой мальчик. Я с кем только не репетировал.
Я по-прежнему не понимал, куда он клонит.
— Но не со мной, — сказал я.
— Ну как же. Уже и с тобой начал.
Репетитор провел теплой ладонью по моему лбу, отвернулся и зашагал наискось через Шиллебекк.
Великий режиссер решил, что это уже чересчур, разогнал зевак, чтобы оставили его в покое, но они вернулись, назойливые и смущенные, подходили все ближе и ближе к прожектору, будто моль, того гляди, пальцы себе обожгут, и в конце концов режиссер сдался, подозвал бедняг актеров, погасил лампы и погрузил наши улицы в их обычную темноту.
На следующую ночь пришла мама. Пришла она, когда мне снилось, что кто-то поменял в городе все таблички с названиями улиц. Нильс-Юэльс-гате стала Мункедамсвейен. Вергеланнсвейен стала Вельхавенсгате. И так без конца. А когда народ проснулся, оказалось, все живут по чужим адресам, и они не находили дорогу, и к ним никто добраться не мог. Единственное, что осталось по-прежнему, — это Август-авеню, Хакстхаузенс-гате, 17, и «Музыка и ноты» Бруна, поскольку эти адреса могу поменять только я один. Мама села на край кровати, положила руку мне на лоб. Проявила меня, не спрашивая, хочу я этого или нет. Бережно вытащила меня из этих сновидений. Мама опять была волшебницей.
— У тебя был жар, — сказала она.
— А ты опять была в темной комнате.
— Откуда ты знаешь?
— По запаху чую, — ответил я.
Мама улыбнулась.
— Летние фотографии скоро будут готовы. Хочешь посмотреть?
— Нет.