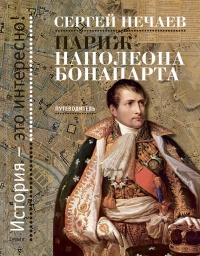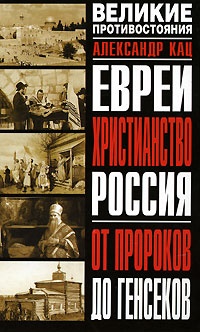Книга Ровесница века - Борис Васильев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну, а что дом? — опять нетерпеливо перебила Анисья: ей не хотелось слышать о худой учителке. — Кто жил в нем? Они?
— А никто не жил. Митька там Красную избу открыл. Книжки собрал, картинки всякие, граммофон. А в большой горнице переборку снял и помести устроил, как в театре. Про попов и кулаков представления делал под гармошку. Молодые не только что из Красногорья — из Верхнеспасова ходили. Раз подрались, так еле утихомирили. Ну, дом и сгорел.
— Поджег кто?
— Может, поджег, может, сам собой — кто ж ведает? Долго тут гепеу шерстило, на допросы тягали, а потом Митьку увезли вместе с учителкой.
— Как увезли? — ахнула Анисья. — Куда ж увезли-то, господи?
— Сказывали так, что туда же, куда и тебя.
— А его-то, его-то за что же? Он же им служил, как не всякая собака… — она громко всхлипнула, затряслась, замахала рукой.
— Жалеешь, стало быть, — помолчав, горько вздохнула Макаровна. — Ах ты, баба, баба. Он тебя сгубил, а ты — вона как… А у нас, помню, мужики говорили, что, мол, бешеный пес всегда до пули добрешется. Вот, значит, и добрехался…
— Ах ты, Митенька ты мой, — не слушая, шептала Анисья. — Ах, какой же лютостью Господь-то тебя покарал. Не мог ты там жизнь свою спасти, не мог, хребта в тебе не было.
Что-то бормотала Макаровна, но Анисья уже не слушала ее. Она представляла себе Митю — того Митю, Митеньку ее! — в отрицающем жалость и сострадание зверином лагерном житье, понимала, что не видеть ему там пощады и что, пожалуй, лучшая доля его, если забили сразу. А могли ведь и не забить, могли холуем сделать, на побегушках, кухонным мисколизом или барачным шутом, которого смеха ради любой блатной торбохват мог заставить такое прилюдно сделать, после чего и петля в сортире отдушиной кажется. Видала она таких мужиков и таких баб, нагляделась на них вдосталь, до отврата, до конца дней своих нагляделась и знала, что ничего нет горше медленного их умирания. И никогда ей ничуточку не жаль было их, не тратилась она на жалость, презрением обходясь, но то же были неизвестные ей доходяги, дешевки, а то — Митя. Митенька ее, первый ее, единственный ее, любочка ее родимая…
— Давай еще водки, старая. Давай, не жмоться, пока душу не вынула.
Не пожмотничала Макаровна — поллитру принесла. Сама и разлила, а свой стакан придержала.
— Погоди, погоди. Сказать тебе должна, чтоб уж сразу. Долго грех на плечах волоку, вроде стерпелась уж, а тебя увидела — и невмоготу. Повиниться хочу, а то душа сердце жмет. Так жмет, так уж жмет…
— Ну, завела, — Анисья закурила, откинулась к спинке стула, обвела глазами рухлядь. — Пограблю я тебя, Палашка, мне жить здесь указано.
— Ты погоди, погоди. — Макаровна вся была во власти принятого решения. — Ты послушай меня сперва, послушай, а потом — хоть простишь, хоть убьешь.
— Да не мусоль!
— С чего начать-то, с чего, а? Может, с удивленья, за что же это Господь Бог наш, всемилостивый наш, руку свою тяжкую на народ русский наложил?
— Бога вспомнила? — зло захохотала Анисья.
— Ты погоди. Ты же не знаешь, ты и духом не чуешь, как жилося нам тут после войны. Мужики, которые вернулись, либо калеки калеченые, либо на лесоповал обратно мобилизованы были вместе с девками, а оттуда, из лесу-то, почитай, никто уж и не вернулся. Кто там богу душу отдал, а кто бежал без оглядки, куда только ноги снесли. Вот тогда-то и стало кончаться Демово наше: мужиков нету, баб молодых нету, скотину еще в войну забили, а хлебушко по всем закромам подчистую подметали. Как нагрянут полномоченные, так стон стоит над селом, будто война, а что поделаешь-то? Что поделаешь, когда налогу уж и на грибы наложили? На грибы, Нюшенька!
— А разве вы не за это самое на сходках-то глотки драли? — непримиримо усмехнулась каторжанка.
— Мы не за это, — помолчав, тихо и строго сказала рыхлая старуха, и бесцветные ее глаза вдруг подернулись сухой и горькой слезой. — Мы за справедливость, за светлое будущее, а тут оно так все обернулось, что годами карасина не видали. Как война началась, так и исчез он, а как кончилась она, тоже не появился. При жировиках жили, а то и при лучине, вот оно как, Нюшенька дорогая, а уж что дети наши ели, то не всякая свинья сожрет, а хлебушек делили, будто просвирки, будто и вправду он — тело Господне. И вот тут… тут, Нюшенька, вышло такое приказание, что, ежели кто беглого властям выдаст, тому за это хлебца цельную буханку и карасину десять литров…
— Это каких таких беглых?
— А разных, много их тогда было. И с лесоповалу бежали, и из лагерей, и дезентиры которые. Летом в лесах прячутся, а зимой их к жилью голод с холодом гонют. Вот тут их… за десять литров карасина…
Старуха замолчала, со страхом глядя на Анисью. Но каторжанка только грустно улыбнулась.
— А помнишь, по ночам огонь жгли и хлебушек под окном оставляли? Было это или, может, приснилось мне?
— Было, Нюшенька, — Макаровна гулко сглотнула слезы. — Июды мы, и я — июда первая. Я твоего родного брата Данилку в погреб заманила, когда он у меня заночевать попросился. Пять ночей крошечки во рту не держал, как из лагеря сбег, а я его — за карасин да буханку!..
Последние слова она выкрикнула судорожно и тяжело бухнулась в ноги. Анисья молча курила, сверху глядя на рыхлую трясущуюся спину: только желваки ходили на скулах.
— Велено было, велено… — в пол, глухо и жалко бормотала старуха. — А у меня дети, травой кормленные, будто поросята, животы у них пучит, глазки болят…
— Дети? — отрешенно спросила Анисья.
— Старшенького тогда в интернат взяли, а при мне — Вася да Манечка. А я — одна, мой-то, как в сорок первом пошел, так и…
— Погоди, какие дети? Ты ж старуха, Палашка, ты уж мне-то не ври.
Оторвала лоб от пола хозяйка, села на пятки, улыбнулась вдруг сквозь слезы:
— Да ты что, Нюша, ай запамятовала? Да я ж всего-то на пять годков тебя старше. На пять годков всего.
Помолчала Анисья. Повертела стакан.
— И ты за керосин моего Данилу Поликарповича?
— Сними грех с души. Не вольна я в нем была. Не вольна.
— С того керосину, поди, и к водке потянулась?
— Кабы одна я, Анисья Поликарповна, — вздохнула Палашка.
— Ну, тогда садись. Помянем всех, кого вы тут не по своей воле на керосин сменяли. Садись, говорю, я зла не держу. Однако так скажу: лучше уходи. Сегодня мягкая я, а завтра найдет — удушу. Как бог свят, удушу я тебя, Палашка, не доживешь ты со мной рядом до своего полтинничка.
До смерти напуганная Макаровна хотела тотчас же убраться подальше, но Анисья не отпустила. Заставила бутылку допить, помянуть погибших, пропавших и погубленных, спеть песню и поплакать. А потом утерла слезы и встала.
— Жить я собралась, а не слезы лить. И жить буду у Савостьяновых — родней они нам доводятся, значит, по закону. Тележка у тебя найдется?