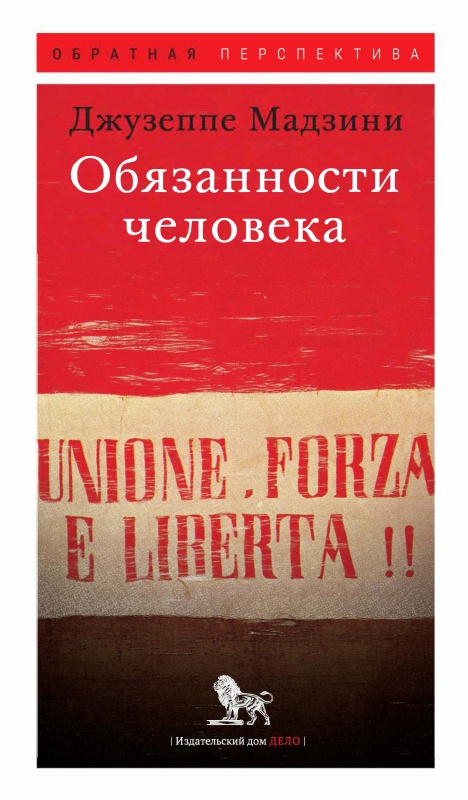Книга Жорж Санд, ее жизнь и произведения. Том 2 - Варвара Дмитриевна Комарова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мы постараемся в течение нашего изложения воспроизвести все эти пропущенные страницы и места, – и читатель будет сам судить, насколько они важны для правильной оценки отношений между Жорж Санд и Шопеном.
Теперь мы может окончательно и спокойно обратиться к самому счастливому периоду этих отношений – к их началу, или к 1838 г.
Весной этого года Жорж Санд должна была, как мы уже говорили, довольно часто наведываться в Париж, по поводу своего последнего процесса с г. Дюдеваном. И вот к этому-то времени, по-видимому, и относятся первые главы ее романа с Шопеном, – те, как во всяком романе, самые завлекательные и для читателей, и для действующих лиц главы, когда еще все неясно, неизвестно, все находится еще im Werden, как говорят немцы, все идет вперед, волнует, обещает, пугает, а ничто еще не огорчает и не разочаровывает, а тем более не наскучивает своим убивающим однообразием.
К этому времени относится следующее несколько загадочное неизданное письмо Жорж Санд к г-же Марлиани от 23 мая 1838 г.:
«Дорогая красавица, я получила ваши добрые письма, но помедлила с ответом, как следует, ибо Вы знаете, что в сезон любви (в стиле Дора) времена переменчивы. В течение недели много говорится всяких «да» и много всяких «нет», и «если бы», и «но», и часто утром говорят: «решительно это невыносимо», чтобы вечером сказать: «воистину, это высшее счастье».
Итак, для того, чтобы написать Вам по-настоящему, я жду, чтобы мой барометр показал нечто если не постоянное, то хоть верное на сколько-нибудь времени. Я не могу сделать ни малейшего упрека, но это не резон быть мне довольной. Сегодня я пишу Вам лишь записку, чтобы сказать Вам, что я Вас люблю, и что мне нужно, чтобы Вы мне писали, чтобы Вы обо мне думали и заботились бы обо мне. Эта мысль даст мне силу и мешает мне вновь впасть в преувеличенное, мрачное, глупое и полное сплина отчаяние»...
Но, по-видимому, это неопределенное положение продолжалось недолго. Жорж Санд была слишком опытна в деле чувства, чтобы не понять, как малейшего повода достаточно для того, чтобы слишком натянутые струны порвались. Она слишком хорошо понимала и впечатлительную натуру музыканта, бывшего моложе ее на шесть лет, и то, какое громадное значение может для него иметь ее любовь. Знала, какое тяжелое испытание он только что перенес из-за отказа Марии Водзинской, но не знала, излечился ли он окончательно от своей сердечной раны, или ищет лишь временного забвения; не знала даже, серьезная ли была эта рана, и следует ли помогать этому излечению. Хотела бы дать ему забвение и счастье, но страшилась, что Шопен полюбил ее в отместку. Словом, как будто испугалась своей ответственности за всякое сказанное или несказанное слово тому, кого она успела уже сама искренне полюбить.
И вот она написала сохранившееся до сих пор, до чрезвычайности интересное, – скажем более: курьезное – письмо к другу Шопена, Гжимале, в котором она с совершенно беспримерной, а для женщины прямо-таки с неслыханной откровенностью и прямотой, не щадя себя, рассказывала Гжимале вкратце все свои предыдущие романы и говорила:
«Вот я какая. Я уже не наивная девочка; вижу и знаю, к чему дело идет. Мы оба с Шопеном стоим на перепутье. Я его люблю, но я еще могу уйти, я должна взять это на себя, если вы думаете, что этим я ему сделаю благо. Вы его друг, вы знаете его предшествующую жизнь и можете судить, что для него будет лучше. Если Вы скажете “да”, я приеду в Париж, если “нет” – я не приеду, и все кончено...»
Письмо это, – на штемпеле: июнь 1838 г. – написанное с поразительной силой и дышащее правдивостью, необыкновенно характерно для Жорж Санд. Одно это письмо дает ей право на название, данное ей одним остроумным человеком: «George Sand – c’est un parfait honnête homme». На такую беспощадную откровенность женщины неспособны. Одного этого письма достаточно, чтобы раз и навсегда опровергнуть излюбленное всеми врагами Санд мнение, что была лицемерна.
Графу Альберту Гжимале.
Ноган (май или июнь 1838 г.).
Никогда не может случиться, чтобы я усомнилась в чистосердечном благородстве ваших советов, дорогой друг; пусть эта боязнь никогда не приходит вам в голову. Я верю в ваше евангелие, не зная его в точности и не разбирая, потому что раз оно имеет такого последователя, как вы, оно должно быть самым высоким из всех благовествований. Будьте благословенны за свои указания и будьте покойны относительно моих мыслей. Поставим точно этот вопрос в последний раз, потому что от вашего последнего ответа на этот счет будет зависеть весь мой будущий образ действий, и раз уж пришлось к этому прийти, я досадую, что не пересилила своей неохоты обо всем расспросить вас в Париже. Мне казалось, что то, что я узнаю, испортит мою поэму. И действительно, вот она уже затемнилась или, вернее, очень побледнела. Но пускай! Ваше евангелие – мое собственное, поскольку оно предписывает думать