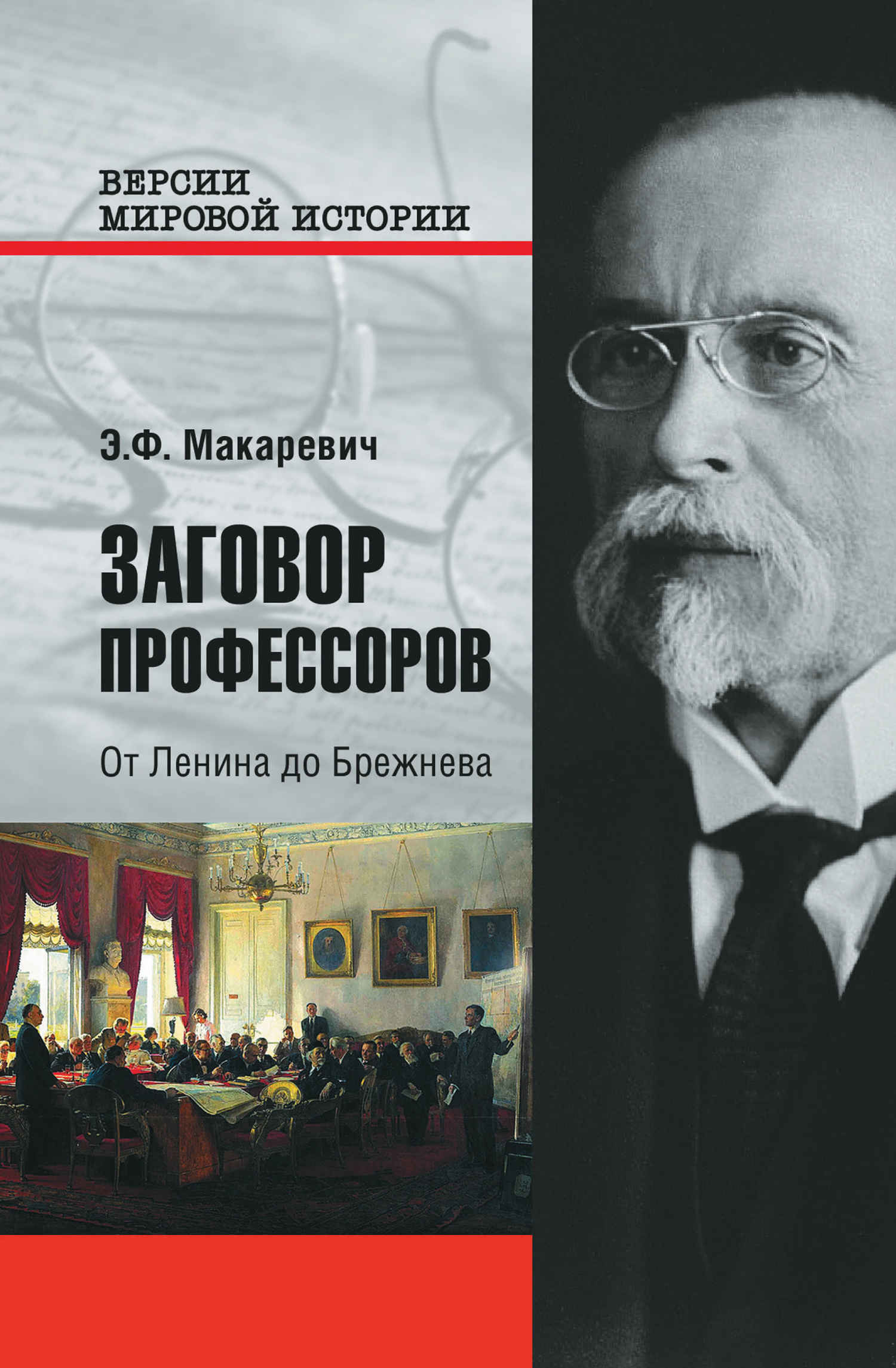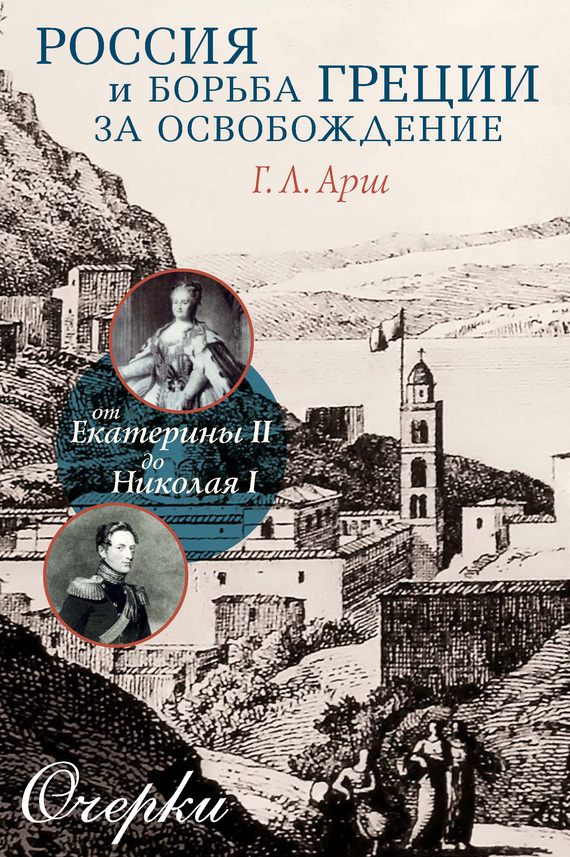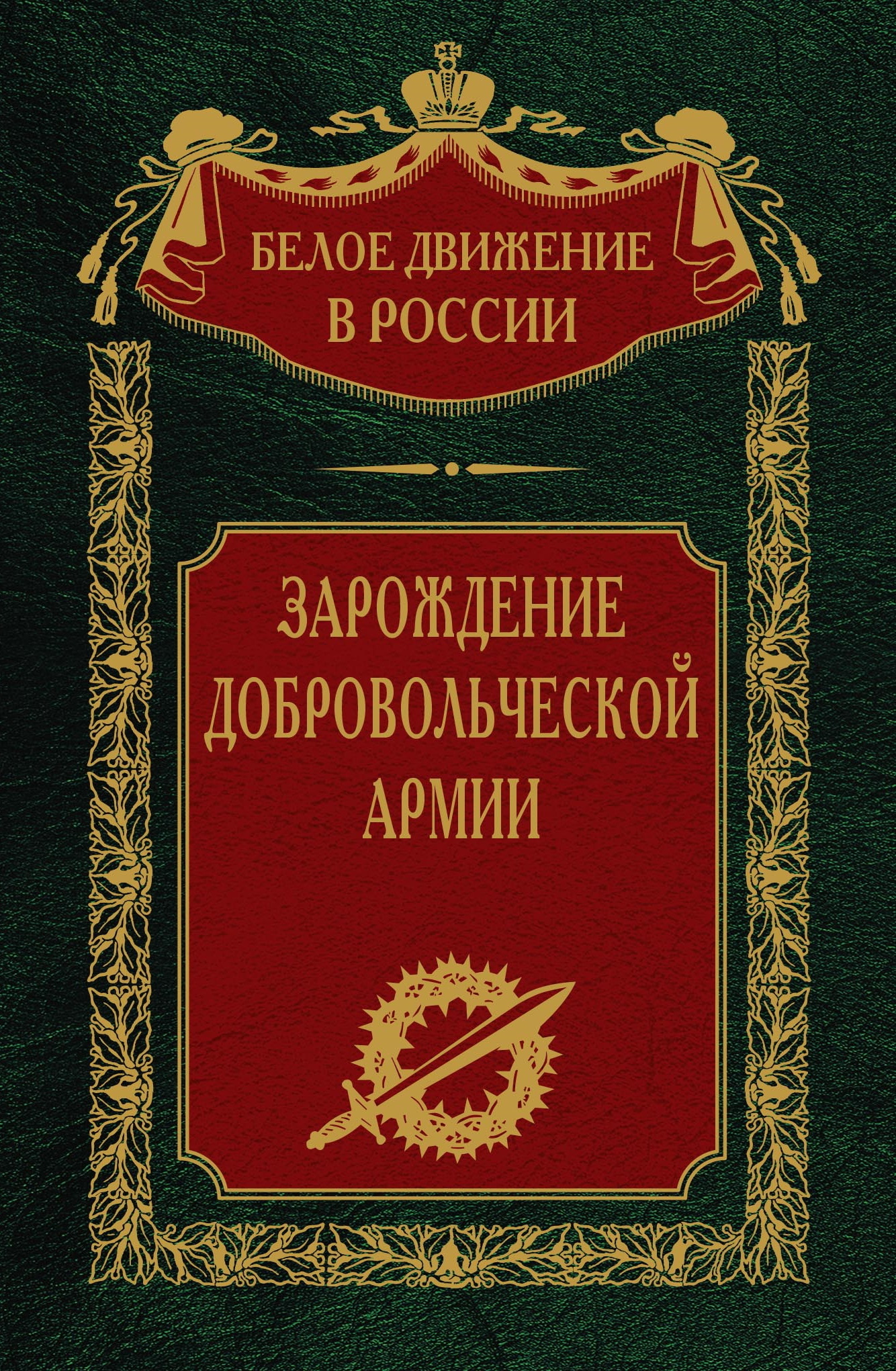Книга На заре красного террора. ВЧК – Бутырки – Орловский централ - Григорий Яковлевич Аронсон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С особой жестокостью нас стали вталкивать в автомобиль, и когда я сел — один из первых у решетчатого окошечка, кто-то с седой бородой навалился на меня всей тяжестью и со свойственной русскому интеллигенту неуместной деликатностью стал извиняться. Голос показался знакомым. Года три тому назад по делам Земского союза я слышал его и тотчас узнал. Это был Ш., который очень обрадовался нашей встрече и рассказал мне, что он сидит с мая месяца по делу о Кадетском клубе вместе с Н.М. Кишкиным. Бывший министр Временного правительства, сильно поседевший, но сохранивший прежнюю юношескую бодрость сидел возле на собственных узлах. Из окошечка я никак не могу узнать Москвы и рассказать своим спутникам, где именно мы проезжаем. Вижу только: осень, солнечный луч играет в блестящей лужице, очаровательная пятнадцатилетняя девочка приподнимает грациозно платьице, чтобы перешагнуть через лужу. Мелькают ноги, пальто, стены домов. Глухой гудок, и после резкого толчка автомобиль останавливается.
Бутырки
В воротах — конвой. В большой приемной нас принимает группа надзирателей, готовых к операции обыска. Дело не слишком затягивается. Взвалив узел на спину, мы проходим двором, мимо тюремной церкви, затем узким коридором в предназначенную нам камеру. Нас встречает стража грубой площадной руганью, которая не прекращается, несмотря на наш решительный отпор. Захлопывается засов, скрипит ключ в замке, и мы дома. Только какой-то старик поляк в черном сюртуке упорно стучится в двери и добивается безуспешно выхода на оправку. Оглядываюсь. В два ряда расположены железные койки, обтянутые парусиной, большей частью порванной и перевязанной веревками. В узком пространстве между коек стоит длинный замусоленный стол. А у дверей ржавая жестяная параша с неплотно прилегающей крышкой. Под столом три медных бака и два огромных чайника. Вот все убранство и мебель камеры.
Устраиваемся, занимаем койки. Кто опытнее, ищет места у окна или посредине. Неудачникам достаются койки, расположенные у параши. Знакомимся, разглядываем население и на следующий день, кажется, что мы уже давно знакомы, близки и знаем подноготную друг друга. Впрочем, некоторое взаимное недоверие к рассказам друг друга остается надолго: кто знает, может быть, просто врет, из любви к искусству, а, может быть, хочет приукрасить темы низких истин нас возвышающим обманом? К нашему приезду туземцев в камере всего несколько человек: какие-то купчики-охотнорядцы, сидевшие за нарушение советских декретов; грузин, называвший себя социал-демократом и арестованный в чайной, где в тот час убили комиссара; какой-то подозрительный тип, по секрету намекавший, что он привлекается по монархическому делу Самарина (на деле, он, вероятно, был просто проворовавшимся советским служащим, «пе-де»). Этот тип заявил новоприбывшим, что он — староста этой камеры.
Остальные прибыли сюда из таганских одиночек. Профессор артиллерийской академии, генерал, болгарин, артиллерийский инженер, два военнопленных румына, группа кадет во главе с Кишкиным, студент латыш. Совсем юный 17-летний гимназист из Вологды рассказывал, как пришли к ним на квартиру с ордером на арест Петра Конова. Петра не оказалось, — был гимназист Володя. Чекист, недолго думая, зачеркнул в ордере Петра и написал Володя. И поволокли раба Божьего Володю из родной Вологды в Москву по Чекам и по тюрьмам. Долгогривый, седобородый священник Б-нов рассказывал, что по какому-то делу арестовано девять Б-новых. На допросе его спрашивают:
— Вы тот Б-нов, который написал стихотворный памфлет про Ленина?
— Нет, не я.
Тогда чекист с многозначительным видом открывает ящик письменного стола, вынимает фотографию сильно декольтированной женщины и спрашивает священника в упор:
— Знакома ли Вам эта особа?
Но так как эта особа оказалась незнакомой священнику Б-нову, его увели после допроса назад в тюрьму, и больше по своему делу он ничего показать не мог. Я вел дружбу с этим священником: у него был жестяной чайник и чай, а у меня кофе, и мы обменивались заварками. Но однажды гимназист, спавший рядом со священником, с ужасом рассказал мне, как его сосед по ночам вычесывает из волос и бороды громадное количество вшей и прямо бросает их на пол. С тех пор, каюсь, наша дружба резко оборвалась.
Весь первый день ушел на уничтожение клопов. Мы зажигали бумажки и лазили вдоль стен, выкуривая насекомых. Пришлось следить друг за другом, чтобы никто не оставил нетронутые гнезда. А потом каждый занимался своим делом. Кто читал книги, кто играл в шахматы, сделанные из неведомого тюремного материала (вряд ли из хлеба: хлеб слишком дорог). Группа кадет, окруженная толпой любопытных, играла в «скачки»: на картонном поле бегали зеленые, красные и синие лошадки. Карты в тюрьме нелегальны, но кто-то ухитрился их протащить.
Было мирно и тихо. Кормили баландой из вонючей капусты, гнилых овощей, картофельной шелухи. Зато давали 3/4 фунта хлеба, и процедура его дележки по системе номерков или по системе выкликаний каждое утро представлялась наиболее торжественным моментом, но дни передач поистине были праздниками. Радовались те, которые получали продовольствие и весточку от близких, надеялись неведомо на что и те, которые заведомо не могли получить ни продовольствия, ни вестей. В нашей камере было таких 7–8 человек, которым каждый выделял кое-что из своей передачи и передавал через старосту неимущим. Последние не испытывали, по-видимому, гнетущего чувства, идея равенства им чужда, и они охотно услуживали, выносили не в очередь парашу, зашивали порвавшийся мешок на койке и пр. С другой стороны любопытно и противно наблюдать проявление собственнического инстинкта у получивших передачи. Такой счастливец сидит у себя на койке спиной ко всему миру и возится старательно и долго с присланным кульком, ревниво прикрывая собой его содержание.
Изредка бывают свидания. Это кульминационный пункт тюремной жизни, в отличие от Таганки, здесь узников отделяют от вольных двумя проволочными сетками. Представьте себе, узкую комнату, куда с одной стороны впускают заключенных, а с другой их близких. Между двумя сетками расстояние в аршин, и в этом пространстве между говорящими разгуливает надзиратель; 35 человек с одной стороны — 35 с другой, выбиваясь из сил, оглушительно крича и надрываясь, все вместе одновременно стараются что-то сказать друг другу, не слыша и не понимая друг друга. Так тянется свидание в течение 10 минут.
Камеры закрыты весь день, жизнь в них идет томительно однообразно. Трижды в день на 10 минут выпускают в уборную, 30 минут продолжается наша прогулка на большом дворе, где мы гуляем целым коридором, человек 100 и где встречаем немало знакомых. Какой-то толстый купчина с огромными телесами обращал на себя всеобщее внимание: оказалось, член Государственной