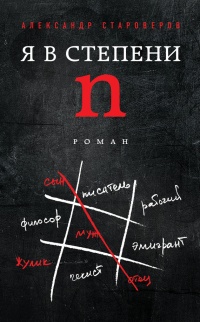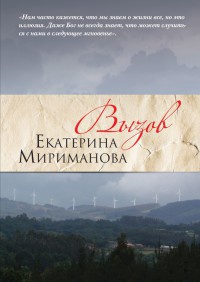Книга Вызов в Мемфис - Питер Тейлор
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но в то время Алекс не мог и представить, что я — со своим воротничком Бастера Брауна и рейтузами — перед разлукой с Нэшвиллом уже пережил подростковый опыт общения с девочками. Теперь мне и самому трудно представить, что в такой вот одежде я прощался с девочкой, у которой была прическа «боб» и которая так взросло выглядела. До самого расставания — моего с этой девочкой — мы часто встречались у старой кирпичной башни в кампусе Уорд-Белмонт — школы для девочек, где она училась. И тогда, как и в самые первые встречи, она пришла с очень милым подарком, обернутым в бумагу и перевязанным белой ленточкой. Какими бы взрослыми ни были наши отношения, в то время я многого в них не понимал — например, этих частых подарков. Зато мне не казалось странным, что Эвелина на пятнадцать сантиметров выше меня, что она носит платье, похожее на платья моих старших сестер, и что у ее белых туфелек довольно-таки высокие каблуки. Ее темные волосы были уложены в «боб» — так в те дни могли ходить и юные девушки, и маленькие девочки.
В день расставания мы целовались — этим мы занимались уже давно. Мы оба вполне осознавали, что это наша последняя встреча, и поцелуй с объятьями продлились довольно долго — особенно для вечера на школьной территории. «Ты не будешь писать из Мемфиса, — сказала она сразу же. — Мальчики никогда не пишут. И все-таки я хочу кое-что подарить — маленький намек». Я открыл продолговатый конвертик, несколько пристыженный тем, что сам подарков не дарил ни разу, и немедленно искренне восхитился вечным пером с золотым ободком. Мы проговорили еще долго, а когда я наконец начал прощаться, — чувствуя подступившие к глазам слезы и даже предчувствуя пустоту, с которой, как я знал, буду жить еще долго, — то не мог найти слов, чтобы передать, как меня огорчает наша разлука. Тут я вдруг заметил, как у нее закатились глаза. Она буквально лишилась чувств, и я стоял у кирпичной башни с нею на руках, пока по моим щекам бежали слезы. Но главным образом мне запомнилось замешательство. И я по-прежнему чувствую замешательство, когда думаю, как тринадцатилетний мальчишка в детской одежде держит девочку, которая внешне — а возможно, и внутренне — была взрослой молодой женщиной. Более того, иногда я пытаюсь понять, какое же замешательство должна была испытывать она, когда ее возлюбленный приходил в таком виде — с накрахмаленным воротничком и в коричневых шортиках, застегнутых на коленках.
Уже где-то через неделю Алекс Мерсер заставил меня надеть длинные штаны и нормальную рубашку. Волосы мне подстригли покороче. Книжки я носил на одобренный манер — а именно у бедра, чтобы рука висела прямо, от плеча до запястья. Если бы не советы и покровительство Алекса, переезд и обустройство в Мемфисе мне бы дались куда трудней. Возможно, старый директор или миленькая учительница английского понимали, как полезно поместить меня под его опеку. Хотя Алекс казался почти женственным в своих внимательности и заботе о чужих чувствах и переживаниях, в остальном он являл собой воплощение мужественности для мальчика, который только входит в подростковые годы. Он был образцово-показательным среди двенадцати- и тринадцатилетних мемфисских мальчишек.
Вплоть до того, что при выборе лидеров на школьной площадке или в классной комнате на него смотрели в первую очередь. На самом деле, именно это качество Алекс презирал в себе в том возрасте — да и в любом возрасте в принципе. Эта патологическая нормальность, считал он, свойственна не только ему, но и всей его семье. «Мы не больше чем обычные мемфисцы — чистейший Мемфис от и до, — говорил он мне. — Не больше. И не меньше». Его братья и сестры, в отличие от моих, были хорошо устроенными в жизни людьми, всегда считались идеалом среди своих одноклассников. Но, как Алекс полюбил приговаривать с годами, после школьных лет из них так и не вышло ничего путного. И оба его родителя были мемфисцами до мозга костей. Их предки жили здесь, как гласит местная поговорка, со времен желтой лихорадки. Оба старших Мерсера, по словам Алекса, верили, что любое отклонение от так называемой мемфисской нормы, будь то эксцентричность или превосходство неважно в чем, равносильны эксгибиционизму. Самый лучший человек, утверждал отец Алекса, — это человек, приспособившийся к обстоятельствам, в которых он родился. Семья Алекса, говорил этот сын Мемфиса, проявивший такой интерес к моей собственной семье, видела весь мир с точки зрения, которая находится на пересечении Мэдисон-авеню с Кливленд-стрит в центре города. Они верили (как говорил Алекс), будто все, что нужно в жизни, можно увидеть из окна трамвая, пересекающего город. Но самого Алекса Мерсера отчего-то вечно тянуло и очаровывало то, к чему он, возможно, стремился духовно, но чем в практическом смысле становиться не хотел. Непростое мировоззрение, но именно благодаря ему он стал лучшим другом, какого я только мог пожелать в своей новой жизни.
Однажды отец появился на детской площадке школы Брюса, чтобы забрать меня домой, потому что мать слегла и звала меня к себе. Тогда-то Алекс увидел отца в первый раз. Обоих, можно сказать, поразила любовь с первого взгляда. Алексу тогда пришлось непросто. Не успел он привести меня к общему знаменателю в отношении длинных штанов и правильной прически, как перед ним появляется возвышающееся создание еще более чужеродное — и по одежде, и по внешности в целом. Благодаря пышным угольно-черным волосам, высокой и статной фигуре и атлетическому сложению отец все еще выглядел почти героически молодым. Отчасти благодаря контрасту естественной моложавой наружности с формальным и старомодным вкусом в одежде и создавалось потрясающее впечатление, какое он производил практически на любого встречного в Мемфисе. В отличие от мемфисских бизнесменов, он часто приходил в контору в полосатых брюках и визитке — при полном утреннем параде, не меньше, — с накрахмаленным воротничком и серым шелковым галстуком с виндзорским узлом. В таком наряде он и пришел за мной на площадку. И стал для Алекса романтической фигурой, вступившей прямиком из прошлого в повседневный здравомыслящий мир Мемфиса.
Думаю, с того момента отец превратился для Алекса в некое божество, в чью веру мой друг не мог вложиться без остатка, но чью истинность искренне уважал и возводил в философский абсолют. Для меня отец оставался человеком из плоти и крови — до того самого дня, когда я покинул Мемфис, чтобы переехать в Манхэттен, и казался просто препятствием между мной и любой возможной независимой жизнью, к которой я стремился, — препятствием перед идеями, интересами, целями, к каким меня подстегивал темперамент. К тому знаменательному дню на площадке я уже провел в Мемфисе достаточно времени, чтобы видеть в этом человеке какую-то странную и феноменальную, а подчас и клоунскую фигуру.
И все же Алекс Мерсер и мой отец Джон Карвер оказались — причем без отчуждения между Алексом и мной — родственными душами, хотя, разумеется, в действительности это был типичный случай притягивающихся противоположностей. Они представляли собой поистине удивительный феномен — и я еще ни разу не встречал столь изобретательного взаимодействия между ребенком и взрослым в дружеских отношениях, а не в отношениях отца и сына или любого другого родства. Это общение приносит то же удовольствие, что способны подарить друг другу друзья любого возраста. И здесь я должен добавить, что изначально близость между мистером Льюисом Шеклфордом и моим отцом вряд ли сильно отличалась от близости между отцом и Алексом, ведь та старая нэшвиллская дружба началась задолго до совместного бизнеса, когда Льюис Шеклфорд, на семь-восемь лет младше отца, еще был маленьким водоносом на боковых линиях футбольного поля, преклонявшимся перед своим героем и дожидавшимся окончания игры, чтобы с ним поговорить. Вполне может быть и так, что мой отец служил природным воплощением идеала старшего товарища для множества младших мальчиков и что мне просто достались такие темперамент и склад ума, при которых он не мог стать идеалом для меня.