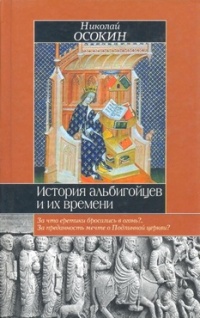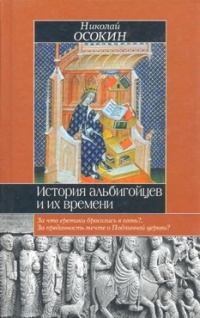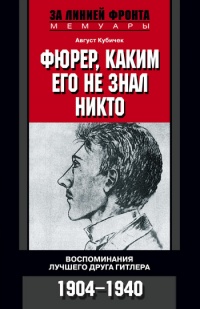Книга Восстание. Документальный роман - Николай В. Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды на каникулах отец взял меня тушить пожар. Лето было сухим, пахло дымом, и все ждали стены пламени. Лесник велел созвать всех взрослых мужчин. Мы выкопали траншею, на которой предстояло встретить огонь. Дым скрывал все, что происходило вокруг. Загонщики встали цепью, и лесник вдруг раздал факелы из тряпок, смоченных бензином. Раздался треск, будто навстречу бежали звери, клубы сгустились, в дальних кронах мелькнули рыжие сполохи. «Поджигай!» — крикнул лесник, и мы пустили огонь навстречу. Пламя успело заняться, встать стеной и поползти к встречному пожару. Наткнувшись друг на друга, обе стены упали и исчезли, оставив лишь дым. Мы бросились заливать блуждающие по земле языки огня. Лесник, закопченный и облепленный паутиной, потом объяснял, как одна стена врезается в другую и между ними не остается кислорода, и гореть уже нечему. Теперь я подумал, что эта война — такой же пожар.
Трамвай перебирался через мост над маслянистой как нефть Тьмакой, и я уже знал, как поступлю. Топографы попадали под бронь, то есть воевать меня бы не призвали, но при этом всюду говорили, что, если кто-то добровольно хочет сейчас же зачислиться в армию, не взять его не могут. Судя по тому, как быстро границы фронта наплывали на Москву, водный трест скоро должны были вывезти куда-то далеко. Я решил, что если запишусь добровольцем, то, во-первых, меня навсегда перестанут держать в списках возможных предателей как сына врага народа, а во-вторых, я, конечно, не смогу распоряжаться собой, но все же у меня, как у военного топографа, будет больше возможностей ходить в отпуск и через полевые связи искать своих несчастных родных.
Слева мелькнула краснокирпичная школа, и вагон приблизился к площади, где каменный истукан шагал куда-то со свернутой газетой в руке. Я стащил чемодан на остановке и пошел к военкомату. Затем бродил полчаса по кварталу, ища вывеску или хотя бы очередь таких же записывающихся, как я. Нет, в одноэтажных каменных особняках даже не горел свет, ни одна дверь не была открыта. Заметив прячущуюся во дворах церковь, я решил справиться там. У двери в притвор висела вывеска с надписью «Осоавиахим». Наверное, он был пророком, этот Осоавиахим. Авраам, Мельхиседек, Мафусаил и он. На стук вышел сторож и подсказал, куда идти.
В военкомат входили со двора. Очереди не было, впрочем, и с этой стороны, и во всем здании дежурили два офицера. Всех обязанных они отправили на фронт две недели назад и теперь придирались и грозили, что медкомиссия всегда найдет, за что меня завернуть. Потом начали хвалить: мол, таких, как ты, очень мало, кто по своему желанию, и уговаривали, уговаривали, расписывали преимущества брони, напирали на то, что гидротехников и так не хватает. В конце концов явился пожилой подполковник и сказал: «Не волнуйся, война догонит». Едва удержавшись, чтобы не ответить «Меня уже догнала», я сказал: «Не хочу. Я ненавижу их всех. Я хочу защищать своих». Подполковник открыл рот, чтобы возразить, но увидел, что я превратился в камень, и положил передо мной чистый лист.
Все началось с того, что замерзли ноги. Почти сразу, едва мы выкатились белой волной в лес и прошли первые километры сквозь сосны. Ночью поезд замедлил ход в Черном Доре, раздался короткий крик — и на полустанок спрыгнули сотни человек в маскхалатах и направились в разные стороны. Все получили широкие лыжи с петлями и низкие ботинки, в которые набивался снег. Если бы я знал, что нам не выдадут гамаши, то сшил бы их сам. Даже на долгих переходах, когда мы разгонялись на целинном твердом насте и не проваливались, ступни все равно превращались в два ледяных бруска. Костров мы не жгли, чтобы не быть обнаруженными, а приходя к месту ночевки — вернее, дневки; передвигались только в темноте, — надевали валенки, рубили лапник, расстилали плащ-палатки и падали спать в обнимку друг с другом и с ботинками за пазухой, чтобы хоть как-то отогреть их задубелую кожу.
Застыли ветви, птицы, камни, все стало мертвым той зимой. Шел седьмой месяц войны, батальон огибал озеро, чтобы пройти в тыл противнику сквозь болота. Немцы оставили полосу в двести километров трясин и топей незащищенной, видимо, думая, что глупо тем, кто только что оборонял свой главный город и заставил их остановиться, устраивать многокилометровый переход к врагу за спину на самом глухом и неважном направлении, которое даже формально было трудно отнести к тому или иному фронту. Но тем не менее нас доставили сюда. У каждого были автомат, валенки, каска, штык-нож, смена белья и паек на пять дней. Горбатые от торчащих под маскхалатами мешков и автоматов, впрягшись по двое в волокуши, мы тащили минометы, пулеметы и коробки боеприпасов. Сначала мы пробирались через сосновые боры, за которыми иногда показывалась равнина озера, а затем началось редколесье. Через болота на запад шла единственная твердая дорога, и по ней продвигались стрелки́ и танки. Там все-таки нашлись кое-какие немецкие части, но после первого же боя они рассеялись. Где-то далеко их армия будто по линейке прочертила линию укреплений и поставила у нее свои дивизии. Поэтому мы перемещались в тишине и лишь однажды слышали далекий гром канонады. Когда мы одолели половину пути, командир объявил: группа должна достигнуть города Холм с другими лыжными батальонами, пока противник не успел переправить на плацдарм новые силы и закрепить его за собой.
До того декабря я проводил все свое время среди механизмов, фонарей, машин, приборов, в кварталах, более-менее расчерченных проектировщиком. Теперь же мы катились среди нескончаемого белого, раздвигая палками сухие травы и отворачиваясь от ветра. Каждый стал сгорбленным уставшим зверем. На болотах все чаще встречался прозрачный лед с застывшими под ним космами трясины, и изгнать холод из тела было невозможно. Чтобы ужиться с ним, заговорить как боль, был один способ — каждую секунду действовать: натирать лыжи, устраивать ночлег, проситься в разведку, лепить снежную стену от ветра. Даже если не требовалась рекогносцировка, я уходил переносить на карту «изменившуюся ситуацию» — так это называлось. Из-за очень старых километровок, редко угадывавших, что нам предстояло увидеть, приходилось рисовать планы заново. Отойдя от стоянки как можно дальше, я вслушивался. Болота молчали, редкие деревни мы обходили, никакие существа нам не попадались, только следы птиц да несколько раз волчьи. Ожидание войны выдуло жизнь из синевы и леса, чья громада шевелилась перед нами как клочок травы, когда мы строились, чтобы продолжить путь в сумерках. Оставшись один, я ложился в снег и смотрел, как по черному небу надо мной плывут мама, отец, Оля, Маргариточка, Анатолий. Это было последнее время, когда я думал о них постоянно. Облака быстро сносил ветер.
Калининскую нашу часть приписали к десантным войскам и расквартировали на левом берегу Волги. Сначала часто менялись офицеры, потом из группы таких же, как я, добровольцев стали забирать самых рослых, сильных и удачливых в стрельбе. К осени нас перевели в лыжников и привезли под Москву. Курсантов изолировали ото всех новостей, и когда я попробовал узнать хоть что-нибудь про Ярцево, то понял лишь, что город был несколько месяцев в осаде и фабрику не успели эвакуировать. Это значило, что мои ушли с беженцами или остались под немцами. За столь долгое время город наверняка разбомбили, не оставив живого места, но нашу глухую окраину могли и пощадить. Навести справки было негде. В середине октября роту подняли по тревоге. Замполит сказал, что бои уже совсем близко, и мы сели на вещмешки и стали ждать грузовиков, но грузовики отчего-то не приехали, а потом переброску отменили.