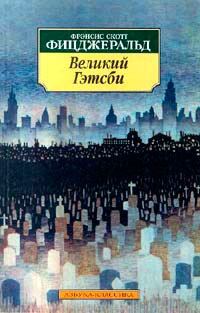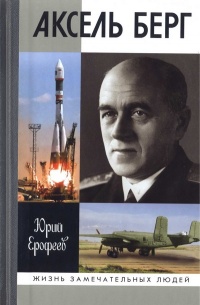Книга Гений. История человека, открывшего миру Хемингуэя и Фицджеральда - Эндрю Скотт Берг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Вы знаете, во время работы над “Унесенными ветром” мне было категорически запрещено использовать любые слова, кроме тех, которые использовала Маргарет Митчелл. И если необходимо было придумать какую-то новую фразу, то приходилось пролистывать книгу так, словно это было Святое Писание, чтобы выбрать фразу из уже существующих, которая подошла бы к ситуации!»
Год спустя он признался Перкинсу: «Я просто не мог преуспеть в роли простого оборудования. Для этого, как и для всего остального, нужно наработанное совершенство». Фицджеральд был готов приступить к работе над несколькими идеями и чувствовал радость оттого, что снова может писать, вместо того, чтобы «отделываться». Он навсегда похоронил идею «Филиппа» и занялся современным романом – «одним из тех, которые могут быть написаны только в определенный момент, когда автор захвачен идеей, – так же, как и “Ночь нежна” должна была быть написана в своем первозданном виде тогда, на Ривьере». Только Перкинс подумал, что в Лос-Анджелесе Скотт научился самодисциплине, как тот сбежал из города в отпуск с Зельдой. Он забрал ее из госпиталя Highland в Эшвилле, и они ударились в пьяный загул на Кубе. За последние несколько лет состояние Зельды стабилизировалось достаточно, чтобы она могла позволять себе короткие путешествия и встречаться с матерью, дочерью или мужем. Но, похоже, всякий раз, когда она встречалась со Скоттом, снова впадала в безумие. Правда, на этот раз слабину дал Скотт. Его запой закончился больницей Doctors в Нью-Йорке. Пока Скотт был прикован к постели, Макс провел несколько часов с Зельдой, и ему показалось, что она выглядит значительно лучше.
«Никто из тех, кто не знал о ее проблемах, не мог бы предположить, что она прошла через многое», – написал он Хемингуэю.
Перкинс верил, что Фицджеральд вынашивает идею нового романа и хочет его написать. Саму идею писатель хранил в строжайшей тайне и лишь намекнул Максу, когда навещал его в Нью-Йорке. Вскоре после того, как Фицджеральд вернулся в Лос-Анджелес, Чарльз Скрайбнер написал ему дружеское письмо, в котором выразил предположение, что, раз уж Скотт работал в Голливуде, было бы логично использовать собранный там материал в новой книге. Скотт в ужасе написал Перкинсу, что «эта дезинформация могла распространиться в литературных кругах». «Если я когда-либо создал такое впечатление, то оно совершенно ложно. Я сказал, что роман будет о некоторых событиях моей жизни за последние два года», – говорил он Перкинсу. Книга, вне всяких сомнений, касалась и Голливуда, но автор настаивал, что она определенно была «не о Голливуде (а если бы и была, то это было бы последнее впечатление, которое я хотел бы, чтобы она производила)». На этот раз Фицджеральд полностью продумал весь роман от начала и до конца, чтобы была возможность отложить его на месяц, если понадобятся деньги, и снова взяться за него, начав «с того же места, фактически и эмоционально», где он и остановился.
Несколько недель спустя Фицджеральд снова был прикован к постели, на сей раз в связи с туберкулезом. Тревоги Скотта усугубились, когда его агент, Гарольд Обер, к которому он всегда мог обратиться за деньгами, когда отказывали все, сказал, что больше не будет его выручать. Фицджеральд был страшно разгневан. Все эти годы он занимал у Обера крупные суммы, но никогда не возвращал. Однако за последние восемнадцать месяцев он выплатил Оберу весь долг в размере тринадцати тысяч долларов и восемь тысяч долларов комиссионных.
Скотт одолжил у Scribners шестьсот долларов, чтобы расплатиться с Гарольдом, и спросил у Перкинса имена двух-трех лучших агентов Нью-Йорка на тот случай, если он захочет уйти от Обера. Перкинс посоветовал Карла Брандта как «необычайно проницательного и покладистого малого, разве что немного хитрого», но напомнил Скотту, что Гарольд Обер был одним из самых преданных друзей.
«Уповаю на Господа, что вы останетесь с ним», – написал он.
Фицджеральд признался Максу, что в корне проблемы – размолвка между Скотти и миссис Обер. Та обвиняла девушку в том, что она навещала их только тогда, когда хотела использовать их дом в Нью-Йорке в качестве pied-à-terre.[250] Хотя, вероятнее всего, причина изменения отношений между Обером и Фицджеральдом была в том, что агент просто не хотел снова и снова одалживать Скотту деньги. В последнем письме на эту тему Перкинс сказал: «Если причина всего – жена, то нужно проявить великодушие. Жены оказывают на мужей странное влияние, и нельзя винить в этом последних».
Возможно, Перкинс подразумевал и свой брак. Его сотрудники заметили, что всякий раз, когда разговор заходил о религии, чувство юмора Макса испарялось и на его месте появлялась едкость и желчность. Обращение Луизы в католицизм и реакция Макса на это уничтожили их счастье. Им было проще избегать друг друга, чем говорить, потому что религия стала преобладающей темой как в разговорах, так и в жизни Луизы. Она ходила в церковь каждый день и проводила там большую часть воскресенья. Для Макса стало обычным делом прийти домой вечером и обнаружить полную гостиную монахинь и священников. Макс с трудом выносил это. Если предстоял очередной такой вечер, он обычно оставался в Нью-Йорке и на ночь. И не только Макса, но и его дочерей, и всех друзей семьи утомил бесконечный прозелитизм Луизы. Когда Макса спрашивали об этом, он угрюмо отвечал, что новая религия сделала ее счастливой. Но Марджори Киннан Ролингс под конец первого года воцерковления Луизы он сказал, что с нетерпением ждет дня, когда все это уже не будет для нее таким новым – матерые католики, говорил он, «не принимают все это так близко к сердцу».
В начале 1939 года третья дочь Макса, Пэгги, решила выйти замуж. Ее избранником был Роберт Кинг – привлекательный врач из Альянса, Огайо. Максу он очень нравился, но казался слишком мягким, поэтому Перкинс боялся, что Пэг будет им помыкать. И в последнее воскресенье марта несколько дюжин гостей одолели двенадцать ящиков шампанского на маленькой закрытой свадьбе в доме Перкинсов в Нью-Кейнане.
Тридцатые годы были на излете, и Перкинс уговаривал Чарльза Скрайбнера нанять больше молодых людей. Он считал, что они вступают в издательский бизнес, будучи более подкованными литературно, чем он в свое время. Он замечал, что его правки не так точны, как раньше. Когда он был моложе, всегда мог предвидеть блестящее будущее для автора по одной только драматичной концовке или одной закрученной фразе. Иногда он давал автору обещание о публикации после одного только разговора с ним.
Он всегда был неравнодушен к воспоминаниям и автобиографическим выдумкам авторов, которые, как он чувствовал, прожили интересную жизнь, полную интересных людей и драматичных событий. Но часто он приходил к выводу, что этим авторам не хватало упорства или таланта. Однажды Перкинс выплатил средний аванс художнику, который был знаменит своими деяниями и хотел написать историю своей жизни. Художник растратил деньги на красивых наборщиц.
«Не важно, какую главу из жизни он бы начал им диктовать, потому что вскоре обнаружилось, что единственные слова, которые он в состоянии произнести, были примерно такие: “Мисс Джонс, вам кто-нибудь говорил, как вы прекрасны?” Книгу он так и не начал, но Перкинс считал, что он все еще носит ее в себе и когда-нибудь, если не помешает несчастный случай, сможет ее извлечь», – говорил Малкольм Коули в «The New Yorker» в начале сороковых.