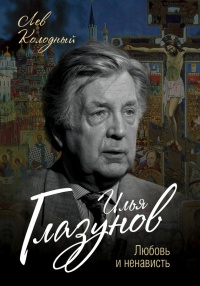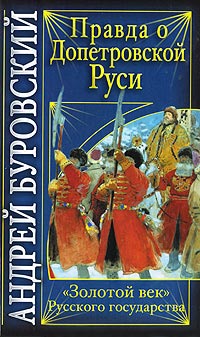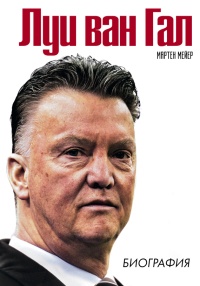Книга Матисс - Хилари Сперлинг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Публика от Нью-Йорка до Токио с замиранием сердца наблюдала за всеми этими злоключениями. Журналы и газеты регулярно поставляли захватывающие истории о знаменитом творце одалисок, поддавшемся чарам непорочной монахини, переманившей художника в лоно католической церкви. Французская пресса перепечатала статью из «Вога» с романтической фотографией сестры Жак с длинными ресницами и задорным носом-кнопкой, выглядевшей на ней, по ее словам, эдакой голливудской старлеткой. Эта публикация лишь подлила масла в огонь ее и без того непростых отношений с сестрами-монахинями из Фойе-Лакордер. Все до одной с самого начала были против Матисса, поскольку считали, что любой ребенок нарисует лучше. Однако консервативное большинство церкви называло новшества художника не просто дикостью, но еще и богохульством. «Я была в панике», — признавалась сестра Жак, вспоминая день, когда впервые увидела «Несение Креста»[274]. Евангельскую сцену Матисс набросал на сверкающих кафельных плитках жирными черными линиями, «карикатурно» изобразив крестный путь Христа. Не случайно именно это экспрессивное панно больше всего понравилось в Капелле Четок Пабло Пикассо (позже ему понравились еще и яркие облачения монахинь, также спроектированные Матиссом). Обитель обвинила в подобных надругательствах сестру Жак, которая и сама была в ужасе: «Как можно было допустить такое? Я стояла оцепеневшая и подавленная». Когда она обращалась за помощью к матери-наставнице, та и не стремилась утешить ее, а сурово отвечала, что создание места для молитвы требует страданий.
Рейсигье тоже был в отчаянии. Энергичный, честный, целеустремленный, но при этом упрямый и недипломатичный, он не совсем подходил для роли посредника между художником, монахинями и строителями. Когда ситуация обострилась до предела, отчаявшийся Рейсигье попросил Матисса об отставке. «Я — инвалид, даже если изо всех сил стараюсь это замаскировать, — с трогательной откровенностью ответил ему старый художник. — Без верного помощника мне просто не обойтись». Если Рейсигье отвечал за связи с внешним миром, то Лидия все четыре года руководила бесперебойной работой в «Режине», где Матисса обслуживала целая женская команда: кухарка, прачка, две сиделки, дежурившие по очереди ночью и днем, а также приглашенные модели и помощницы (реже — помощники) по мастерской, в чьи обязанности входило еще и позирование. Моделями для образа Христа стали два студента-художника — брат Поля Мартена Жан и возлюбленный Нелк Винсент де Крозаль; овал лица и стройная фигура Богоматери были списаны с четырнадцатилетней дочери некогда любимейшей матиссовской натурщицы Анриетты Даррикаррер. Большинство ассистенток мэтра были начинающими художницами — способными, упорными, энергичными молодыми женщинами, горевшими желанием увидеть мир и освободиться от семейного гнета. В Симьезе им щедро платили, приглашали за стол, представляли бывавшим там знаменитостям. Работать приходилось на износ, но Лидия пыталась устраивать им перерывы в виде поездок «по делу» в Париж и «подкармливала» то коробкой конфет, то билетами в театр. Она никогда не упускала повода отпраздновать чей-то день рождения бутылкой шампанского, а в конце рабочего дня у них вошло в обычай собираться в мастерской и выпивать стаканчик муската, полистать присланные из Парижа новые книги и поиграть с четырьмя котами, считавшими квартиру Матисса своей вотчиной.
Центром всего, естественно, был Художник, восседавший в своей кровати, словно восточный паша или привереда управляющий викторианских времен. От контактов с внешним миром модели и ассистенты ревностно ограждались («У нас не было свободных воскресений во время работы с Матиссом»). Уличенные в дерзких выходках вроде попыток незаметно улизнуть вечером или провести к себе возлюбленного наутро допрашивались с пристрастием. Матисс не терпел легкомысленного неподчинения строжайшей дисциплине, которую сам соблюдал годами («Несчастные, они ничего не понимают, — снисходительно замечал он. — Не могу же я жертвовать воскресными днями ради желания этих юных созданий провести время с кавалерами!»). Цена была высокой, но это того стоило — Матисс много требовал, но давал еще больше. Он открыл им новый мир, изменил их жизнь, познакомил с такими сокровищами искусства, о каких они не могли и помыслить. «Работа стала для меня такой же страстью», — признавался Поль Мартен. «Он отличался необычайной требовательностью… даже суровостью, — написала Дюэм пятьдесят лет спустя. — Для меня это был самый величайший из преподанных им уроков».
Но постоянно выдерживать подобный прессинг было очень непросто. «Это было настоящее рабство, особенно для Лидии», — говорил Поль Мартен. Когда у ее патрона случались истерики или он впадал в ярость — она принимала удар на себя. Кроме поездок в Париж по делам патрона, позволявших хотя бы ненадолго вырваться из этого замкнутого круга, у Лидии не было ни выходных, ни свободных вечеров. В одиночестве ей удавалось побыть только поздно вечером, когда, закрыв дверь своей комнаты, она наливала себе рюмку крепкой, ею же приготовленной наливки, и доставала сигарету. Матисс называл Лидию своей Снежной Королевой, постоянно говорил о ее выдающихся качествах, с трудом переносил расставание с ней, но при этом знал, как вывести Лидию из себя, чтобы она потеряла контроль и выругалась по-французски.
Сам же он постоянно ругался, когда рисовал или писал, а когда был не в силах работать, делался мстительным и срывал раздражение от собственной беспомощности на моделях или ночных сиделках, редко задерживавшихся у него дольше нескольких месяцев. Стойкая Лидия никогда не жаловалась, но бывали дни, когда ее молочная бледность усиливалась, а глаза становились красными от слез. Все знали про собранный чемодан, который лежал у нее в шкафу, и никто не сомневался, что, если в один прекрасный день капризы Матисса станут уже невыносимыми, она уйдет, не сказав ни слова. Правда, женщины помоложе, вроде Аннелиз Нелк или Полины Мартен, вскоре поняли, что эти двое не просто тиран-патрон и его безропотная помощница. За многие годы сильная и волевая Лидия превратилась в такую же добровольную пленницу живописи, как и сам Матисс.
12 декабря 1949 года в Вансе был заложен первый камень Капеллы Четок. Матисс был слишком слаб и на церемонии не присутствовал. Свое восьмидесятилетие он встретил в окружении трех старших внуков, чьи портреты нарисовал на потолке над кроватью кистью с длинной ручкой («чтобы они были у меня перед глазами, особенно по ночам»). Симьез был завален восторженными поздравлениями, цветами и подарками. Вообще-то юбилей начали отмечать еще два года назад: сначала ретроспективной выставкой в Филадельфийском музее, а затем выставкой в галерее Пьера Матисса в Нью-Йорке. Критик Клемент Гринберг объявил Матисса величайшим из всех ныне живущих художников, в галерею Пьера ломились желающие увидеть последние работы Матисса («Если бы я открыл окна, — писал сын отцу, — то твои поклонники гроздями вывалились бы на улицу»). Реакция французских зрителей на выставку декупажей в Музее современного искусства в Париже летом 1949 года была более сдержанной — изобретенную Матиссом технику мало кто воспринимал всерьез.