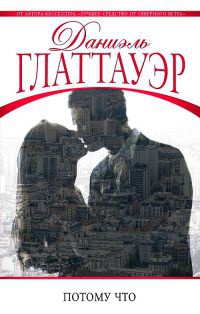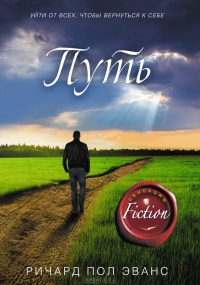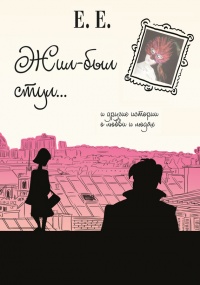Книга Светило малое для освещения ночи - Авигея Бархоленко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И всё же случайность творчества чем дальше, тем больше перестает быть случайностью, к творчеству стало возможно стремиться как к цели, независимо от формы воплощения, и великое мистическое значение творящих первыми ощутили женщины и служили творцам своей великой любовью, помогая оторваться от земного и на своих руках вознося возлюбленных к небу.
* * *
Прости меня, мама.
* * *
Я не была женщиной, отец. Во мне стучало другое время. Но прости, если можешь.
* * *
В Эдеме уже росли яблоки, когда туда пришел человек.
Придерживайся хоть Дарвина, хоть Библии — и там и тут утверждается одно: человек явился в готовую среду. В приготовленную среду. И не зря среди первобытного рая росли эти деревья Познания и Жизни. Они были изначально предназначены человеку. Оба. И Древо Вечной Жизни тоже. Или даже прежде: я был вечен, пока не знал, и Бог терпеливо выращивал для меня Древо Познания, и я наконец соблазнился, и Бог вздохнул с облегчением — система заработала. Это уже сюжетный ход, что человек выгнан из рая из божественной предосторожности, предохранившей нас от вечной жизни. Вечности нам всё равно не миновать, но в некотором отдалении. Изгнание — сужение Вечности до Времени. Но в малом древнем разуме произошло обратно-зеркальное отражение: раз я не вечен, значит — я от второго дерева вкусить не успел, а не потому, что Бог разгневался за мое согрешение (а за что же еще?). Так что это уже позднейшие напластования или покровы, с умыслом или без набрасываемые на главную тайну. А наказания не было, потому что не было греха: человек не мог не вкусить, человек был предназначен для того, чтобы вкусить. Иначе он остался бы одним из многих в ряду тех живых существ, которым, божественно возвысившись, давал имена, — он не стал бы ни познающим, ни разумным.
Разумным у него не получается до сих пор, но его любопытства не останавливает и смертельная опасность. Плод познания, как известно, был прекрасен видом и вкусом и был столь притягателен, что человек согласился платить за него смертью. И эта великолепная многотысячелетняя формула Добра и Зла есть доньютоновское открытие единства противоположностей, первый, основополагающий закон всего сущего, не собственно о Добре и не собственно о Зле идет речь, а о чашах вселенских весов, о дороге тысячелетий, о скорбном пути муравьиного проникновения в поверхностные закономерности внешнего и внутреннего мира. Творение впервые проявило собственную волю.
Интересно, что и здесь что-то важное связано со смертью. «Ибо в день, когда сделаешь это, смертью умрешь…» Поэтическое преувеличение: в тот день никто не умер. Но это издержки стиля. Важнее другое. Была ли это угроза в устах Бога? Предупреждение? Условие? Или свойство частичного знания? Адам и Ева, вкусив от яблока, узнали, что они наги. Никто, вероятно, более всевпечатляющего открытия не совершал и в последующем. Человек обнаружил, что нищ и жалок перед ликом Всемогущего, что разум его пуст и тело не имеет опыта, и «соорудил себе одежду из листьев» — направил первое же усилие на себя самого, точнее — для себя, причем для себя внешнего. Знание, начавшись с великой философской истины, скатилось на бытовой уровень, и иначе быть не могло. Но и до сих пор, построив города и ступив на Луну, мы помним, что не знаем ничего, что по-прежнему наги и босы, ибо унитаз, даже украшенный бриллиантами, не есть Знание, а в лучшем случае — вспомогательное для Знания условие. И благая Смерть обрывает будничный путь, чтобы предоставить иному неведающему возможность новой попытки.
Смерть — великий двигатель грядущего. И, может быть, милосердный попечитель человеческого восхождения.
Может быть, Бог, предупреждая о смерти, хотел, чтобы человек ее не страшился?
Плоды же на дереве Вечности сияют слишком высоко, и нашего роста всё еще не хватает, чтобы до них дотронуться. Но Великое Древо цветет, плодоносит и ждет.
Человеку предстояло сделать то, чего до сих пор не совершало ни одно животное, — освободить часть своей жизни от воспроизводства и сна, и часть эта с давних пор была отдана Богу. Это было еще то время, когда Бог говорил с Адамом или Моисеем непосредственно, лицом к лицу, как говорит отец с детьми, — тогда детей, видимо, еще можно было пересчитать. Потом помочи стали длиннее, и Бог уже не являл лица, а вещал через ковчег и пророков: пророки безусловно обладали даром слова, но слово их было слишком односторонним и наскучило: и тогда запел художник — стихами псалмов, рассказами об отроках в печи огненной, о двенадцати братьях и Иосифе Прекрасном, о Самсоне, рушащем храм, и Далиле, остригшей его волосы, о голове Иоанна Крестителя и воскрешении Христа. Новый Завет — это проза и притчи, проникающие своей сверхзадачей в сердце быстрее, чем однообразные обвинения. Лишь Иоанну Богослову удалось в последний раз устрашить нас, остальные пугатели не в счет, они только еретики и подмастерья. Ковчег переместился в руки человека творящего, и писателю сегодня верят больше, чем попу.
Но и этот период на исходе. Гремят бесчисленные ВИА и авторские песни, в столицах выставки самодеятельных художников, дети издают книги, а домохозяйка вяжет шаль, которой восхищаются в Брюсселе. Я не кощунствую. Я, может быть, тоже предпочту псалмы царя Давида социалистическому реализму. Я всего лишь ощущаю тенденцию. И тенденция, возможно, в том, что Бог снова хочет говорить с каждым непосредственно. Или каждый, вернувшись блудным сыном через тысячелетия, прикасается к Отцу.
* * *
Знание застывает в догме, материализуется в догме, сохраняется догмой и через догму же становится массовым, готовя множества к восприятию следующей революционной ереси.
* * *
Я не захотела возвращаться на работу. И не потому, что не желала повышенного внимания к себе и всеобщих консилиумов по поводу каждого своего движения. Я не желала делать вид, что мы заняты серьезным делом. Мне стало казаться, что основной интерес человека располагается не в привязке его бетонного жилья к бывшим березово-грибным рощам и не в реконструкции изъеденных шашелем деревянных домишек прежних мещан, оказавшихся теперь в центре еще одного мегаполиса. Мне требовалось свободное временное пространство, чтобы понять хотя бы себя, а если повезет, то и часть остального, потому что без остального себя тоже не осилить.
У меня никогда не было лишних запросов, вещи на мне консервировались, как в холодильнике, и даже день ото дня становились новее. Ей-богу, у меня не снашиваются даже каблуки. Так что мне вполне хватало того, что я уже имела, а прочие вопросы могла разрешить доставшаяся мне в наследство немаленькая библиотека, в которой я, сколько ни копалась, не могла обнаружить для себя смысла.
Я засела дома — без определенной цели и без понуждения, хотелось спать — спала, хотелось вытирать пыль — вытирала. Ко мне вернулся вес, который был во мне в восемнадцать лет, и проступило что-то еще, чего я не осознавала в себе никогда, как, впрочем, не осознавала полностью и сейчас, но сейчас я чувствовала, что это рядом и принадлежит именно мне — то ли как дарованное авансом, то ли идущее за мной по пятам из столь древней древности, что я готова была поверить, что слышу в своей комнате скрип древовидных папоротников или ощущаю не содержащий темноты мрак, рядом с которым солнечный летний день унижается до его плоской тени.