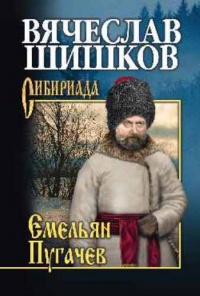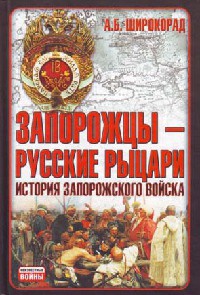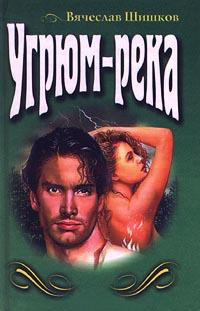Книга Емельян Пугачев. Книга 1 - Вячеслав Шишков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Еще пуще привлекла внимание Пугачева беседа за столом, у стойки.
Сидели там молодой гусарский офицер да сам хозяин заведения, полнотелый черноусый человек с иссиня-темными глазами. Как выяснилось из разговора, хозяин был черногорцем, часто живал в Петербурге и неплохо говорил по-русски.
— Да, да, господин поручик, странные на свете дела бывают, — с акцентом, громко повествовал черногорец. — Вот уже больше года по Далмации и Черногории разъезжает неизвестное лицо. То он лекарь, то он одетый в рубище мужик. И никто не может узнать, откуда он, кто он такой. Только вдруг объявляет себя… знаете, господин поручик, кем? Московским Петром Третьим!
Пугачев разинул рот и затаил дыхание. Он жаден был до всяких слухов.
Удивленно выпучил глаза и гусарский офицер.
— Да, да, — не терпящим возражения тоном продолжал черногорец. — И тогда многие стали стекаться к нему. А некто Марк Ямовик обратился к народу с речью, что этот таинственный человек есть подлинный император Петр Третий, бежавший из заточения в России, что он видел его в Петербурге. И в ручательство своих слов оный Марк Ямовик давал свое имущество и голову свою на отсечение.
— И что же дальше? — поспешно спросил гусар, допивая кофе.
Черногорец пожал плечами, сделал гримасу недоумения, сказал:
— Что дальше — и сам не знаю. Жду вестей от своего знакомого из Черногории — Боро Станиссека, сына губернатора, умершего в Петербурге. Ну, а вы, господин офицер, видали покойного императора?
— А как же! — воскликнул гусар.
— Каков же он из себя?
— Из себя он был… из себя он был… — гусар, повертывая голову, обводил неторопливым взором во множестве сидевших за столиками военных и штатских, русских, поляков и турок, и вдруг пристальный взгляд его остановился на большеглазом исхудавшем Пугачеве. — Вы видите вон того хорунжего?.. Под окном который, донской казак… Изрядно он смахивает на Петра Федорыча… И окладом лица и особенно глазами. Только бороденку сбрить.
Хотя гусар говорил негромко, но чуткий Пугачев даже сквозь шум кофейни услыхал эти слова.
На следующее утро под каким-то предлогом он пробрался в палаццо, где был штаб донских казачьих полков, и украдкою стал пристально всматриваться в надкаминное зеркало.
«Неужто жив покойничек? Стало, не зря народ о нем балакает», — думал он и все крутился перед зеркалом, набекренивал на ухо мерлушковую шапку.
К нему подошел с обнаженной саблей часовой-казак:
— Тебе, господин хорунжий, к докладу?
— Нет, — ответил резко Пугачев и вышел.
Столь поразившие Пугачева необычайные слова черногорца вскоре забылись. На смену пришли другие интересы и волнения. Снова раздался шум боевой опасной жизни. Но Пугачеву воевать больше не пришлось. Он тяжело заболел. От скудного питания у него образовались нарывы на груди, а от сильной простуды — ревматизм в ногах: ноги ныли день и ночь. Из строя его отчислили на лечение.
Захворавший Пугачев лежал в лазарете. Большинство больных валялось на полу, на соломе. Пугачев же «огоревал» себе холщевую койку. Здесь помещались «нетрудные» больные, не было слышно ни криков, ни стенаний.
Бродили санитары из слабосильной команды, раза два в день заглядывали лекари. Солдаты почему-то недолюбливали их, заглазно называли «людоморами». Соседи Пугачева добрые, из нестарых мужиков. Велись беседы по душам, о том, о сем, а всего больше — насчет войны.
— Вот воюем, — сказал тамбовец, обросший рыжей щетиной; голова его была забинтована. — А поди раскуси, из-за чего война? Пес ее ведает.
— Из-за чего… По приказу! — протянул другой, чернявый. — Раз приказано — воюй.
Пугачев многодумно ухмыльнулся и проговорил:
— Хы, приказано… С бацу не прикажут, зазря. Попервоначалу обмозгуют дело-то, а тут уж и кулаки в ход.
— Вестимо! Без этого не можно, без розмыслу, — прошепелявил парень с выбитыми в рукопашном бою зубами. — Это тебе не в деревне, стенка на стенку, и — никаких.
Пугачев помолчал, затем неожиданно спросил:
— У ваших бар, поди, много земли-то?
— Земли-то? — отозвался тамбовец в рыжей щетине. — Под нашим барином тыщи полторы десятин.
— А наш помещик, в отставке штык-юнкер Хитрово, на семи тысячах десятин сидит, — подхватил чернявый. — Всюе зиму хлеб-то евонный возят…
— Куда же?
— Куда?.. На Волгу, оттуда по весне — в Питер. Бурлаки тянут, путины две-три сломают за лето по воде.
— От нашенского барина тоже в Питер хлеб плывет. Прямо на удивленье, сколь же народу в Питере-то, чтобы весь хлеб с Расеи сжирать?
— Эх, деревня, голова тетерья, — незлобиво пошутил Пугачев и закинул руки за голову. — Из Питера наш хлеб в заморские разные страны тянется, на всякие торжища. Вот я в Кенигсберге был, ярмарка там знатная живет, ну-к и там нашего хлеба да пеньки сколь хошь. Раскусили, мужики, куда хлеб-то втикает, труды-то ваши кровные?
— Да ты, Омельян, сам раскусил, а уж мы теперь жевать учнем, — засмеялись солдаты. — У тебя, казак, видать, ум густой, что твоя капуста.
— Звестно, — проговорил Пугачев. — А то хрюкнула свинья зря ума, ее волк и схрумкал. А вот ежели взять нашу сторону — Дон и Понизовье все, от нас хлеб в Питер не с руки возить, горазд далече, а надо где коло вблизи норовить. Вот тут-то, братцы-мужики, Черное море зараз и сгодилось бы.
Нагрузил кораблики, оснастил да и дуй не стой на заморское торжище.
— Да уж это так, — поддержали солдаты.
— А чье Черное море-то? — поднялся на локте Пугачев. — Турецкое море-то, вот чье. Смекнули, братцы?
— Э-э-э, — протянули мужики и заулыбались. — Стало, хотится нашему царству-государству по султанскому морю путь-дорожку проложить?
— Кабудь так, — молвил Пугачев. — Чрез это и войнишка тянется. Петр Великий под Питером вызнал да отвоевал пути-дороги к тамошнему морю, а мы вот здеся-ка того же добиваемся.
Помолчали. Рыжий поправил бинт на голове, сказал:
— А на кой прах сдалось нам море? Нам бы только сытыми быть.
— Сытыми? — вскинулся на него Пугачев. — Горазд много захотел ты, дядя. Сытым быть… Ха! А не хошь ли воли да землицы барской, да чтобы и самому барином быть?
— А чего ж, — приподнялся на полу рыжий солдат. — Мужик от воли ни в жизнь не трекнулся бы, за волей он живчиком пошел бы, лишь бы поддержка была от миру.
— Как же, дожидайся… Поддержал волк ягненка за ногу… Ха! — ухмыльнулся Пугачев. — Мотри, дядя, ежели б ты помещиком заделался, ой, по-иному загуторил бы. Пожалуй, завопил бы во весь рот: «А подавай сюды море! Желаю корабли со своим хлебом водить!»
Все гулко засмеялись.
Тамбовец в рыжей щетине, уцапав за рубахой блоху, сказал: