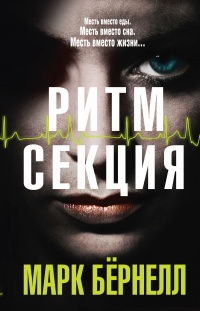Книга Цвингер - Елена Костюкович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Расцветают на холстах лучшие портреты. Пожилые, озаренные умом лица. Такие лица, которые можно заработать исключительно мышлением и опытом. Наподобие тех, что на фреске Гирландайо «Явление ангела Захарии» в капелле Торнабуони: Кристофоро Ландино, Марсилио Фичино, Аньоло Полициано, Джентиле Де Бекки. И как те были все в красных шапках и в красных плащах, так сейчас в сонном царстве дед Жалусский и Владимир Плетнёв, и побратимы-поэты Борис Слуцкий и Давид Самойлов, и Павел Коган, и даже Семен Гудзенко стройно сидят в гимнастерках. Все в шеренге, фронтально развернуты, как святые у иконы на низу.
Объявляют о приезде Александра Николаевича Яковлева.
Все притихли.
— Как, и его уже к нам?
— Ну и Додика Бэра пора сюда к нам додемобилизовать!
— А как? Его пуля не берет и штык не берет. Или не знаешь, что у него и кличка — Вечный жид?
Дед выбрасывает в Викину сторону руку. Вика, ругнувшись, видит, что ему уже не хватает картонок. Приходится раскурочить один из архивных коробов, стоящих на полке в офисе. Брать бумаги архивные одну за другой, выбирать поплотнее.
При этом из носу у Виктора льется, насморк усиливается, приходится вытирать сопли обрезками жесткого картона, отчего нос еще хуже царапается и краснеет. Воображаю, что скажет Наталия, когда завтра прилетит и увидит это шершавое жвало. Хотя это еще, конечно, хороший вопрос: прилетит ли она?
Прилетит ли она?
— Свету надо употреблять побольше. Тогда лучше очерчиваются вырезные фигуры, — говорит дед Сима.
И поворачивает софит в левый угол сцены. Высвечивается веселая и толстая Ева, главная актриса их фильма, в пыльной шляпе из светлой соломки с полотняными ромашками и васильками. Ева двигает шляпку то на лоб, то на затылок перед рябым в черных проплешинах старинным зеркалом. Какая она в зеркале красивая! Вот только шляпка, произведение саксонского короля, портит вид. Ева решительно стащила с себя шляпку, скрутила в бараний рог и сунула под стул.
Тогда истерично закричал Тоби Джагг:
— Этот хруст комкаемой соломы доводит меня до истерики! Я не в силах выносить громкие звуки. Задание выполнено — посылка доставлена — мы бросили им наши яйца — оставили визитную карточку — посадили капусту! Это им за Гернику! А теперь вы не имеете права шуршать и действовать мне на нервы! Невыносимо!
Дедик немедленно вырезал новую шляпку из яркоокрашенной бумаги, обменял ее на тень и напялил тень шляпы на тень дамы. Дама — какая же Ева? — это была, похоже, повзрослевшая Тоша — кокетливо крутнулась перед зеркалом. Вика бросился:
— Антония! Антония!
Чтоб обнять Антонию, надо было только проскочить через дверь из маленькой комнаты на Мало-Васильковской, Викиной комнаты, в соседнюю, бабулину. Однако дверь загородила собой тень бабули Леры, очень молодая, и с неудовольствием наблюдала, что там делается в смысле шляпки и Антонии по обратную сторону двери.
— Королевская? Это же моя? А почему Сима уверял, что не привез ее из Германии?
Лера то и дело поворачивалась к Люке, привлекая дочь в свидетели безобразия, но ее дочь (она же Вике — мать) хладнокровно читала верстку, время от времени что-то помечая вытащенным из пружинистых волос карандашом.
Карандаш блестел, лакированный и крепкий. Люка посмотрела-посмотрела на этот превосходный карандаш и вдруг властно вытянула его по направлению к двери. Как волшебную палочку. И карандашом нарисовала на двери фигуру Бэра. В полный рост, в каске, прикрытой камуфляжным чехлом «мицнефет», и в цахальных танкистских ботинках, которые ему как милуимнику полагалось держать дома на случай экстренного сбора. Улыбнулся, облобызал Люке кисть руки, перенял у Люки волшебный карандаш и по-вампирьи хищно впился в него зубами. Стал в зубах вертеть-жевать часто. Прожектор отражался от блестящих граней карандаша и раскидывал в стороны веселые лучи. В пышных волосах Люки отыскался еще один карандаш, она передавала Бэру еще один, и еще один, и еще один. И вдруг оказалось, что у Бэра затиснуто в зубах чуть ли не десять карандашей, и он, как самоходное орудие, плюется ими, целясь в белую дверь, а дверь вдруг оказалась белой дверцей громадного холодильника, на которой было написано Frigidaire и примощено что-то круглое и концентрическое наподобие мишени. По этой мишени полагалось ножи и томагавки метать.
Холодильник крякнул, расскочился, и оттуда вывалился закоченелый труп.
Вика взвился ошарашенный. Уставился в собственные руки. В руках не было ножниц. Ну и при чем это к делу? Их там и не должно было быть. Ножницами орудовал в документальном фильме, вырезывая тени, не Вика, а дед. Как только мысли устроились, сделалось ясно, что о документальной ленте речи нет. Слава богу, и трупа нет. Это кошмар, он закончился. Бред, перевозбуждение! Измочалился Виктор, столько уж ночей не спя. Беспокойство и полнолуние.
Ночь только начинается. Время час. Носом дышать не могу, значит, заснуть не смогу. Дыша ртом — воздух режет воспаленное горло. Снотворное так и не приехало. Лежит на подзеркальнике в Милане. На котором, если верить Нати, его нет. Наталия тоже лежит в Милане. Она, конечно, была бы альтернативой снотворному.
Протянул руку, принял с тумбочки что-то из миланских бумаг и уткнул туда нос, надеясь, что от усталости рано или поздно все это осядет на одеяло и его мозг если не отключится, то хотя бы войдет в ночную расслабленность. Блокнот, правда, не таков, чтобы расслабляться. Это набросанные им, Викой, за Лиорой отрывки и воспоминания. Кстати, обилие света в том бреду — это, сказал бы аналитик, конечно, в честь Лючии и, конечно, в честь Лиоры. Отблеск их светлых, светящихся имен. Ну ладно, значит, в тему. Перелистаем блокнот, куда я записывал ее запомненные «пластинки».
О, Лерочка, засели в памяти и выплывают просто так на фоне жизни — даже не тексты, а интонации. Странно, там сплошь и рядом идиш. Хотя Лера его не знала. И тем не менее идиш лез как вата из стеганого одеяла — пер наружу, где дырочки прострочены, по молекуле, по волоконцу. А, вот, нашел. Не слышанное с детства «шланг ароп» — «проглоти!». Это Лерочка в сарафане и болеро, с сигареткой, изнывая в столовой Дома творчества в Дубулты, где уже не осталось никого, все на пляже, и ей хочется на пляж, — пятилетнему исчадию ада, неподвижно сидящему над тарелкой с комом за щекой.
— Ну шланг ароп, ну давай уже.
— Я не могу прожевать. Попроси у них сосиску.
— Попроси! Вот еще взялся пурыц (принц). Кухню закрыли. Доедай, не выдумывай, что тебе принесли, детонька, и скорей пошли купаться. Уже на пляже все!
А вот связный кусок, он был записан, когда ей было уже за восемьдесят. Он записывал за нею полдня, сосредоточившись, придя к ней в гости в тот далекий отсек Лериной памяти, в котором она обитала, практически не выходя.
Проблема в том, что платиновые тигли я не знала кому передать. Из Киева все, кто могли, бежали. Немцы были уже в пригородах. Но все же тигли были на балансе института. Оставить их, уйти, не взяв расписку, означало попасть под суд.