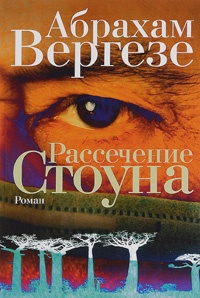Книга Живи и радуйся - Лев Трутнев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я опешил…
– Ну?
– Не моя это.
– А вот потерпевшие уверяют обратное, и их трое. Причем один из них сын прокурора.
Слово это – прокурор, обладало какой-то суровой магической силой: стоило его услышать и на душе всплескивалась тревога. Откуда, от каких начал тянулась эта боязнь, не угадать ни умом ни сердцем. В плоти, что ли, нашей поселилась она изначально, на клеточном уровне. Ударило оно – это слово, меня в голову посильнее, чем палка драчунов, и руки опустились, и ноги будто размякли.
– Понимаешь, куда ты втюрился? – Но зла в голосе нового директора я не уловил. – Раскрутят они это дело, раскудахчут. Тебе несдобровать и пятно на школу, а я ее принял недавно.
– Не я зачинал, – вдруг начала восставать во мне справедливость.
– Доказать надо. Если все было так, как ты нарисовал, то иное дело. Хотя ножик, пусть маленький и перочинный, пускать в ход преступно, как не крути.
– Они бы меня покалечили.
Директор помолчал, потрогал вывернутые ноздри широкого носа.
– Ну а зачем за отпрыска бывших политических, да еще евреев, на своих кинулся?
Снова в упор стрельнули в меня этими словами, вышибли искрометные мысли, в которых я еще не разобрался, не пропустил их через душу.
– Не честно это, – первое, что пришло на ум, выдал я.
– Честно – не честно, – хмурился однорукий, – Робин Гуд нашелся. Ладно, иди, педсовет решит, как быть дальше, если органы не вмешаются.
Какие органы? Мне было непонятно, но звучало это зловеще, надсадно для сердца, тягостно для ума. Сразу расхотелось идти на урок и я направился в кабинет рисования, к Павлу Евгеньевичу, надеясь застать его там.
– Ножичек я покажу на педсовете, при всех, – заслушав о моих перипетиях, ободрил меня Павел Евгеньевич. – Видишь, куда они гнут: на уголовщину и грязно. Этот новый директор пока не раскрылся. Повременим показывать ему козыри. А ты поговори с Розманом – пусть он подтвердит случай про сайку…
* * *
Таи не таи – не утаишь. Каким образом все узнали о драке, можно было только гадать: или противная мне сторона специально распустила слухи о ней, или же кто-то случайно проговорился, и эхо этой случайности разнеслось без границ. Но после уроков ко мне подошли Агутченко и Максимов. Первый похлопал по плечу:
– Молодец, дал отпор! Только зря за еврея заступился. Мало ли что за одной партой с ним сидишь и в одном классе учишься… – И пошло-поехало, закрутило мозги…
– Не боись, в обиду не дадим, – лез с поддержкой и Максимов, – за деревенских всегда вступимся. Весь класс поднимем…
Но дело оказалось серьезнее, чем мы предполагали. На другой день, с утра, меня снова вызвали к директору. Лысого, в очках, худого, с аскетическим лицом и впалыми глазами, человека увидел я в кабинете и застыл у дверей, холодея спиной.
– Этот? – спросил лысый у директора.
– Он. – Однорукий поднялся и, хмурясь, протопал к выходу. Дверь за ним захлопнулась.
Я смотрел мимо сидящего за столом человека на задернутое морозными вензелями окно с тоской, понимая, что пришел этот ухайдаканный не то болезнью, не то злом человек по мою душу, и пришел не с добрым намерениями.
– Рассказывай, – начал он дружелюбно, – как дошел до такой жизни?
И вдруг зазудело что-то у меня в груди, поднялось злым противлением напраслине, встало на дыбы и выплеснулось наружу в едком ответе:
– Какой это такой? И кто вы? – Глаза мои широко открылись, и я попытался поймать под очками взгляд спрашиваемого.
– Следователь, молодой человек, следователь прокуратуры, а о чем я спрашиваю – ты прекрасно знаешь.
– Документы есть? – пошел я напролом.
Очкарик полез в карман, вынул какие-то «корочки», в которые я заглядывать не стал, зная, что это лишнее и что этот, с голым черепом, мужичок на самом деле следователь. В системе дознания я тогда не разбирался. Да и кто знал всю ту силовую сеть, накинутую на людей, в ячею которой мог попасть любой человек, в любое время и по любому поводу, если власть усматривала теневой на нее накат…
Теперь уже без волнения, с четкой истиной я пересказал повторенное уже не единожды.
– Ну а где этот, по твоим словам, маленький, не острый, перочинный ножичек, которым ты якобы хотел просто отмахнуться, попугать негодяев и задел ногу одного из них случайно?
Впутывать Павла Евгеньевича в мою тяжбу без согласования с ним не хотелось, и я схитрил:
– Дома.
– Пошлю – принесешь? – пытался обыграть меня этот высохший на допросах человек, катанный жизнью.
Но я догадался по едва уловимой тональности, а может, интуитивно открыл его ход, почувствовав, что юлить в этом случае опасно.
– Принесу, – утвердился я.
Следователь зыркнул из-под очков.
– Ладно, пока оставим нож. Драку ты первым начал?
– С чего бы? Их трое – я один.
– Резонно. Но в жизни всякое бывает…
Что-то тоненько, слабее комариного писка, подсказывало мне, что человек этот, вероятно не мало переживший, склонен мне верить, но ему не обойти ту цель, с которой его сюда направили.
– В принципе тяжек сам факт махания ножом, не важно, какой он величины и при каких обстоятельствах применен. Сегодня ты складником помахал, а завтра финку за голенище. Корячится тебе исправительная колония для несовершеннолетних…
Хлестанули эти слова по хребтине больнее пастушьего кнута, сдавили тяжестью плечи, аж ноги задрожали, и хотя я понимал, что припугивает следователь, а совладать с тугой волной тревоги не мог. С ней, с занозой опасности в сердце, я сразу пошел к Павлу Евгеньевичу.
– Ну это мы еще посмотрим, – выслушав меня, скептически заявил он. – Педсоветом после Петра Петровича, у которого раны открылись, верховодит Редькина и решение его будет не в твою пользу. Но есть еще начальство повыше. Понадобится – и в область обратимся. А пока учись – будем здесь разбираться. Думаю, до города дело не дойдет – мусор свой выказывать наверх вряд ли посмеют…
Какое учение, если над головой повисла опасная вязка – того и гляди упадет на шею и захлестнется. Руки не держали ни карандаша, ни книжки. Одно дело – колотил я грушу на косяке боксерскими перчатками, впечатывая в нее все свое возмущение и душевную черноту.
Вера попыталась вытянуть из меня истину, но я устоял: зачем ей лишняя тяжесть на сердце – от своей бы не согнулась. И так повлекло меня домой, в то светлое, где меня и поймут, и пожалеют, и защитят, так защемило в груди, захватило дух, что едва-едва удержался я от этого поступка, последствия которого могли бы лишь усугубить мое положение. Нет – от напраслины не спрячешься ни в кругу друзей, ни в родне, ни под лаской матери. Она везде достанет, собьет с ног и затопчет, если не подняться ей навстречу, не стать грудью в защитной стойке. Понимал я это, а может, свыше направлялся мой разум в нужное русло. Так или иначе, но поборол я свое вихревое желание и остался ждать развязки того узла, что так нежданно-негаданно завязался там, откуда и не мыслилось…