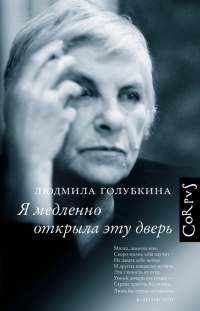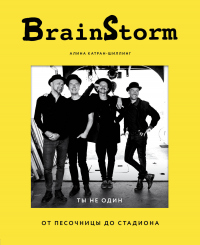Книга Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе - Виктор Давыдов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тем не менее из неспособности врать я все же посоветовал Кисленко бросить эту службу и переезжать в Москву. Сам же отправился думать, как мне сохранить свой внутренний баланс, который чудесным образом установился к лету 1982 года.
Это состояние стоило многого, ибо было наилучшим со времени одиночки в самарской тюрьме.
Еще в феврале я был очень плох. Я был на грани, за которой почти стопроцентным становился риск суицида или какого-нибудь индуцированного психоза — с переводом в Первое отделение. Все-таки быть нормальным среди сумасшедших — это ненормально.
Я снова начал доходить, несмотря на достаточное питание: терял вес, кровоточили десны, в глазах через пару часов шитья появлялись темные круги. Почти все выходные дни я проводил, валяясь на койке. По вечерам иногда вдруг накатывало состояние оцепенения — и тогда я долго сидел, держа в руках книгу, которой не читал, и не менял позы, сколь бы неудобной она ни была. Сказывалось отсутствие витаминов, недостаток солнца и свежего воздуха — ну, и главное, смысла такой жизни.
И вдруг на свидание приехала Любаня.
Дата свидания долго была неопределенной — Любаня то болела, то ей нельзя было отпроситься на работе. Еще какое-то время Бутенкова — вернее, КГБ — отказывалась выслать вызов, необходимый для въезда на пограничную территорию. Поэтому я сильно удивился, когда Валентина неожиданно вызвала меня со швейки, после чего отконвоировала вниз на первый этаж.
Там я увидел Любаню.
Первый раз за полтора года.
Она не изменилась ничуть.
Те же свитер и джинсы, высокие каблуки, та же Любаня — ну, разве что чуть худее, чем раньше; видимо, мы доходили с ней синхронно, пусть по разным причинам. Те же улыбка и жесты — слегка манерные, как и всегда.
Третьим с нами сел сам Кисленко — что было против всех правил СПБ. Минут двадцать он промаялся, оказавшись в некомфортной ситуации — третьим в беседе мужа с женой, — после чего без объяснений вышел, оставив нас на все оставшиеся сорок минут наедине.
Мы больше ничего не говорили. Мы целовались. Я сел рядом с Любаней и целовал все открытые места на ее теле, бывшем так близко и так любимом, — как уже давно не было. Аромат Любаниной кожи кружил голову и пьянил. Каждый поцелуй бил сильной дозой наркотика, выводившей куда-то в космос, за пределы пространства.
Таким я и вернулся в отделение — парящим над землей и совершенно вне ума.
На другой день свидание продолжилось. Место Кисленко заняла Валентина, которая тоже вела себя достаточно халатно, периодически выходя и возвращаясь, — что не давало нам уже возможности долго целоваться, но позволило достаточно откровенно разговаривать и спокойно передать Любане список политзаключенных СПБ (уже в мае эта информация появится в мюнхенском бюллетене «Вести из СССР»),
Вечер я провел в ходьбе от двери и до окна, периодически вскакивая с койки и после отбоя. Санитары рычали, появлялась медсестра — и во избежание последствий приходилось для вида лечь. Мысли летали в голове вихрями, сталкивались, рассыпались и, собираясь, снова летели навстречу друг другу.
В новое морозное утро, выйдя в туалет совсем не выспавшимся, я встал рядом с Егорычем у крана, разделся до пояса и облился обжигающе-холодной водой. Она придала бодрости, достаточной для того, чтобы сделать зарядку — несколько раз присесть и отжаться. После этих жалких потуг голова сразу закружилась.
С того дня весь образ жизни резко изменился. Я не только стал заниматься зарядкой по утрам и на прогулке — пусть это было и «не положено», — я начал заниматься йогой, выучив по «Науке и жизни» несколько базисных упражнений. (Обучение йоге было уже запрещено к тому времени, но под другими названиями пролезало в подцензурную печать.)
Вслед за зарядкой и йогой я занялся медитацией. Как ни смешно, сам я не догадывался, что те практики назывались именно так. Эзотерика к этому времени была выжжена из всех публикаций, но, как обычно бывает, отвечая на спрос, будучи выгнанной в дверь, она вернулась в окно. Ныне известный психолог Владимир Леви популяризировал технику «аутогенной тренировки», которая, по сути, является одним из методов медитации.
Уже к апрелю я начал чувствовать в теле бодрость, которой никогда не испытывал за все благовещенское время. В здоровом теле воспрянул и дух. Ум, уже давно существовавший в анабиозе, погруженным в серую тягучую жидкость, неожиданно вернулся к жизни, стал ясным и потребовал — как и желудок после голодания — пищи.
Я вернулся к художественной литературе, в субботу и воскресенье, когда добавлялись свободные часы, я читал журналы, которые мне присылали: «Науку и жизнь», «Химию и жизнь», «Науку и религию», «Вопросы философии». Обсуждения «Феноменологии духа» читались в СПБ примерно столь же актуально, как в окопах под обстрелом, но некоторые публикации пробуждали и интересные мысли.
Этого оказалось недостаточно. Тогда я попросил прислать мне языковые учебники, после чего каждый день два академических часа занимался английским и еще два часа — немецким. Немецкий я начал учить с нуля — пусть после английского это было и несложно. Еще два часа в день четко по расписанию я читал толстые литературные журналы и книги. Это требовалось, чтобы если не развить, то хотя бы не потерять умения мыслить и свои мысли выражать. Обычные тюремные базары мышлению мало помогали.
Хотелось писать, но перед тем, как за это приняться, требовалось еще семь раз подумать. Писать открыто — даже самые безобидные тексты — было неразумно. Проблема была даже не в политическом содержании, а в том, что любая необычная фраза, любая метафора могли быть истолкованы как симптом психического заболевания. Точно так же, как в Институте Сербского эксперт Герасимова заподозрила галлюцинацию в «черном свете».
В Шестом отделении была пара человек, которые имели разрешение писать и занимались этим. Одним из них был Дима Щеголев — неглупый парень-бурят, писавший свои воспоминания. Щеголеву шел двадцать первый год, но ему уже было что рассказать о своей жизни.
Своих родителей Щеголев не знал — был усыновлен русской парой врачей, причем не абы кем: его приемная мать была главным терапевтом Читинской области. Тем не менее Щеголев в юности связался с плохими компаниями и, соответственно, с четырнадцати лет отбывал сроки за кражи и грабежи сначала на малолетке и потом на зонах. Это была уже третья его ходка, на чем родители, видимо, решили поставить крест и, несомненно, использовали свои связи, чтобы сына признали невменяемым.
На самом деле Щеголев был абсолютно нормален, более того, к тому времени он был и настроен очень позитивно: принял решение с криминалом завязать. Рассказывал, что некогда сидел на героине, но слез с иглы сам методом cold turkey (чем сломал в моем сознании миф о наркозависимости как о болезни).
Маленький и юркий, как все азиаты, Щеголев был для меня постоянным стрессовым фактором. В СПБ он получал письма и посылки от своего приемного отца — тогда как мне мой родной отец не написал ни строчки за прошедшие три года.