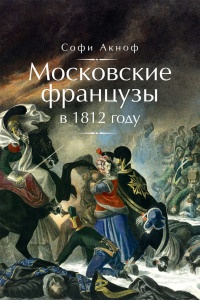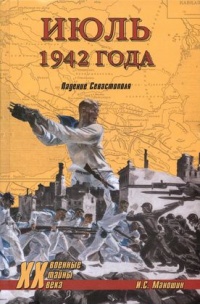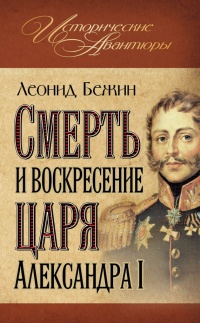Книга Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я вписала деньги в тетрадь и оставила их там. Тетрадь лежала на аналое, под псалтырью. Пришли монахини из закрытого Белокопытова монастыря. Они что-то сказали м. Параскеве, видимо, про меня, а она им шепотом: «Она — воровка!» Она, видимо, увидела деньги в тетради. Я молчала, так как не хотела ее оскорбить.
Однажды, уходя куда-то, она сказала: «Сегодня топить печь не будем. Там есть картошка, — и указала на черепок, в котором кормились куры. — Можешь съесть ее». На мое счастье, пришла женщина с поминаньем и принесла мягкую булку и чашку овсяного киселя. Я поела, накормила мальчика Митю и еще оставила м. Параскеве. С Митей она обращалась сурово: била его и привязывала к ножке стола, а когда скажешь ему ласковое слово, еще более сердилась на него и на меня.
Однажды мы пошли собирать по деревням картошку. Она входила в хату, а я, помня наставления старцев, стояла у двери. Давали нам понемногу, но все же в мешке набралось столько, что мне стало тяжело его нести. Грудь стало ломить, и во рту появилась сладость. Я почувствовала тошноту от переутомления сердца и предложила оставить где-нибудь картошку, чтобы потом за ней прийти, и идти собирать дальше с пустым мешком. Мать Параскева расстроилась и закричала: «Вот тебя потому нигде и не держат, что ты ленивая!» Я все же оставила картошку под кустом и пришла за ней потом.
Как-то раз м. Параскева сказала мне: «Не называй меня „матушкой“. Не надо, чтобы знали, что я — постриженная монахиня. Я веду не монашескую жизнь!»
А настоятельницы, которую я так ждала, все нет и нет! Я много о ней слышала, знала, как она относится к о. Герасиму и как он ее ценил. А м. Параскева отзывалась о ней весьма неодобрительно. Однажды днем приходит седой иеромонах. Я стала просить его отслужить обедню. Мать Параскева говорит:
— Я не против, но ты приглашаешь, а ему надо дать поужинать. Иди в деревню, собери хлеба!
Я взяла мешок, а у самой на душе тяжело: как я пойду просить?!
В первой избе меня ласково встретила женщина и рассказала, что у нее недавно умерла дочь: поехала за хлебом, спрыгнула с поезда на ходу и разбилась.
— Не бойся, не бойся, тебе всякий даст! — говорит она.
Только в одном доме хозяин начал укорять, и я от него быстро ушла.
Через несколько дней батюшка стал говорить, что ему хотелось бы приготовить запасные дары. Нужна мука, которую можно достать у его знакомых в селе за 12 верст. Наутро я туда отправилась, конечно, босиком. Хозяева, видимо, купцы, приняли меня хорошо и дали в пакете фунта два белой муки. После этого они направили меня к бывшему казначею, который получает посылки и, наверное, поделится мукой. Там мне отсыпали в бумажный мешочек с условием, что я сама буду печь просфоры и не дам этим заниматься «одержимой Параскеве». Я сказала, что сама не могу распоряжаться. Тогда они просили передать муку настоятельнице Вере по ее приезде. По приходе я об этом сказала батюшке, думая, что он, как духовник, будет держать тайну, и успокоилась.
Батюшка о. Анатолий велел мне возвращаться в Оптину к Успению. Наступили первые дни августа. Мать Параскева обращалась со мной все хуже и хуже. Но на меня это не ложилось тяжестью. Я как бы вошла в древнюю отшельническую жизнь и сознавала, сколь это полезно.
Перед уходом я подумала, что нехорошо уйти не примирившись. Я стала на колени и сказала:
— Прости меня, матушка! Ради Господа, скажи мне, за что ты на меня сердишься?
— Ты лжива, непокорна и к тому же воровка! Я заметила, как ты носила воду по полведра. Получила пшеничную муку и мешок отправила в деревню, а мне дала пакетик.
— Не мешок, а пакетик фунта в два.
— Нет, ты скрываешь!
— Кто вам сказал?
— Батюшка.
— Так пойдемте к нему, и я покажу вам тот пакетик, который мне велено было передать настоятельнице! Я не могу уйти, не выяснив этого недоразумения. Я ведь ухожу отсюда и не должна больше молчать!
— Нет! Не пойду выяснять. Я верю тебе. Прости ты меня. Оставайся здесь. Мы хорошо будем жить. Ты меня будешь учить молитвам, я ведь неграмотная и скрываю, что я пострижена, потому, что веду такую жизнь.
Мы простили друг другу и расцеловались.
На другой день я чуть свет вышла в дорогу. За несколько дней до Успения я была в Оптиной пустыни, и о. Анатолий благословил меня готовиться к причастию.
После мать Амвросия долгие годы прожила в Козельске в уединенном домике с несколькими сестрами.
Наконец (по-видимому, в 1937 году), она пишет:
Нам уже видно было, что дело идет к концу и нас всех скоро возьмут. Поспешив послать посылки нашим ссыльным, я поехала в Белев, чтобы нанять там комнату, но туда мне пришла телеграмма, что «меня ждут», и я поехала обратно. На платформе ст. Козельск ко мне подошли два военных и сказали: «Идите за нами». Меня посадили в вагон и повезли в Сухиничи, где находилось ГПУ. С поезда меня повезли на машине в помещение, где были только нары во всю стену и где я была встречена толпою наших уже арестованных сестер. Меня стали обнимать и так весело заговорили, что мой провожатый стоял в недоумении, глядя на эту картину. Он даже сказал что-то ласковое, запирая нас.
В день св. Воздвижения нас перевели в тюрьму. Там были такие же нары, но народу было столько, что лежать можно было только на боку. Некоторые лежали под нарами. Предложение ходить на кухню чистить картошку было большим утешением. К октябрьским дням принесли ленточек, чтобы мы делали бантики и флаги. К тому времени я так ослабела, что ходила в уборную, держась за стенку. Во время обеда нас выпускали из камеры брать суп в миску. Если в супе было мясо, мы его не брали.
Поодиночке нас вызывали к следователю. Я обвинялась «в привлечении девушек к монашеству». «На вас жалуется мать, что вы отняли у нее дочь, уговаривая идти в монастырь», — прочел следователь и остановился. Я решила: так Богу угодно, чтобы я страдала, и я буду молчать. Но следователь заговорил хорошим тоном: «А вы сами скажите, как это было». Тогда я объяснила, что мать просила принять на квартиру ее больную дочь, которая не выносила шуму в их доме. Следователь сказал: «Ну, это другое дело. Вас тогда можно обвинить только в немой агитации. Я знаю вашу уединенную жизнь, а вот врач и верующая, это немая агитация, особенно, когда вас уважают. Вины у вас нет, и вернее всего вас освободят или дадут вам недалекую ссылку, — все это он говорил неуверенным тоном, выбирая необидные выражения, — если бы вам только изменить внешность!» — «Я уже на краю могилы, могу ли я менять свои убеждения!» — сказала я. Мы попрощались, и я видела, что он мне сочувствует.
Тем не менее по этапу я была переведена в Смоленскую тюрьму. Вещи везли на телеге, а мы шли пешком до вокзала. По сторонам ехали конвойные верхом и шли пешие с ружьями. Я не поспевала за идущими, и конвойный несколько раз тихонько ударял меня ружьем. Видя, что это не помогает, он взял меня под руку и повел.
В вагоне теснота была страшная, дышать было трудно. Среди ночи закричали, что пойман какой-то известный разбойник с шайкой и что его хотят поместить к нам. Мы запротестовали, и, после долгих переговоров, его решили оставить на станции до следующего поезда.