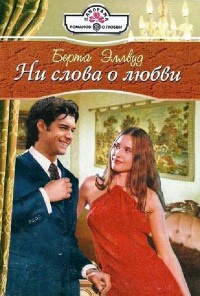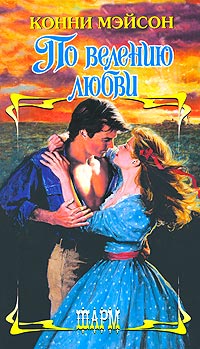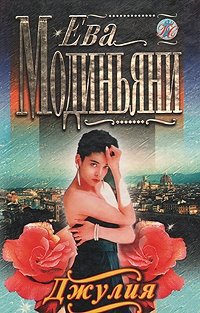Книга Неистощимая - Игорь Тарасевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Красин, помимо себя отметив это морозовское «милый человек», пожал плечами и пошел по дорожкам к двери в монастырской стене.
А вам мы можем сообщить, дорогие мои, что дальнейшая судьба Евгения Васильевича Полубоярова нам известна. Он исчез. Отовсюду. Вышел Полубояров из монастыря через минут двадцать после Красина вместе с Лисицыным и немедленно после этого исчез. Такие вот странные обстоятельства. В скорбную клинику назначен был вскоре новый главный врач, в монастырь немедленно прибыл по благословению Глухово-Колпаковского архиерея новый престарелый дьякон по фамилии – вы только не смейтесь – Наливайченко, из малороссов. И хотя старичок-дьякон был ростом весьма мал, со впалой грудью и крохотным ротиком, бас из его тельца выходил такой, что при службах, казалось, стены Божия Храма ходят ходуном. Исчезнувшему Полубоярову и присниться не мог такой бас. Поселившись, разумеется, не в монастыре, а снявши комнату в Кутье-Борисово у солдатской вдовы Макарычевой, старичок Наливайченко прожил там еще лет двадцать или двадцать пять, заделав вдове четверых детей. Вот это нам известно совершенно достоверно.
А летом следующего года в ту самую низкую дверцу, в которую, однажды попрощавшись с Красиным, вошла голая Катя, теперь, нагнувшись, чтобы не задеть светловолосой головой верхнюю, держащую кирпичный свод балочку, вышел исправник Лисицын. Был он – через год-то почти! – уже подполковник. Следом вышла средних лет монахиня и еще вторая монахиня. Глухой апостольник скрывал ее лицо, но тщетно, мы же знаем, что это – Катя. Катя несла на руках небольшой продолговатый сверток. Лисицын, против обыкновения порядочного человека, вышел в дверцу первым. Фуражку Лисицын, конечно же, держал в руках и сейчас не надел на голову, а повесил на переднюю луку седла – в двух шагах от калитки оказалась привязана к березе каурая лошадь. Видимо, она застоялась, потому что радостно заржала, увидев хозяина и даже взбрыкнула передними ногами, отчего черная жандармская фуражка упала в светлую, нежнейшую майскую траву.
– Балуй у меня! – Лисицын поднял головной убор, отряхнул и надел, повернулся к Кате. – Давайте, Катерина Борисовна.
– Сестра, – поправила старшая монахиня. Подполковник на это ничего не сказал, молча отвязал лошадь и сел в седло.
– Давайте, Катерина Борисовна, – повторил сверху, нагибаясь к Кате и протягивая обе руки.
Катя отвернула кусок материи, в которую был завернут сверток и посмотрела на него.
– Спит, – почему-то хриплым голосом произнесла Катя и прокашлялась. – Наелась и спит.
Резким движением она передала сверток Лисицыну, а тот взял его с огромным бережением и прижал к золоченым пуговицам на кителе. Когда Катя передавала сверток, лицо ее чуть приоткрылось за монашеским черным платом, и стало понятно, почему она говорит с хрипотцой – Катя была страшно бледна, как всегда была бледна мраморною бледностью Маша, и, главное, все лицо ее было залито слезами.
– Не беспокойтесь, Катерина Борисовна, – неизвестно в который, видимо, раз повторил Лисицын. – Все готово. И кормилица, и документы… и белье… И пинетки, и ботиночки, и все-все я выписал из Парижа… – тут жандарм позволил себе улыбнуться. Улыбка мгновенно преображала его. – Запись в церковной книге в Ильинском храме в Светлозыбалове… Все сделано… А вы… Катерина Борисовна…
– Сестра, – второй раз настойчиво повторила старшая монахиня. – Вы езжайте с Богом, Павел Ильич… Не ровен час, увидит кто… – она опасливо оглянулась по обеим сторонам стены и перекрестилась. – Езжайте!… Только что шажком… Бережно.
Как вы сами понимаете, дорогие мои, в монастырях никаким беременным находиться не полагается, тем более – рожать. Но для Кати… для единственной из оставшихся в живых дочери основателя монастыря сделали исключение. Было ли к тому прошение на архиерейское имя или же это стало еще одной монастырской вкупе с Глухово-Колпаковской жандармской управою тайной, а грех взяла на себя тогдашняя Настоятельница вместе с особо приближенными монашками – поистине Бог весть. Во всяком случае, первая из вышедших сейчас из двери монахинь нервничала и торопилась.
– Езжайте! – повторила она и перекрестила лошадиную морду. – С Богом!
– Павел Ильич, – подняла голову Катя. – Не могу с вами быть нечестною… И вообще не могу быть нечестною… Я знаю, вы питаете надежды…
– Да, – совершенно просто и спокойно сказал Лисицын с седла, только глаза его вдруг загорелись восторгом, как тогда, когда он увидел Катю, встречающую Хермана. – Возможно все вновь переделать так, как оно и должно быть. Я хочу, чтобы эта девочка стала нашей с вами дочерью. Я люблю вас, Катерина Борисовна. Много лет. Имею честь просить вашей руки.
Никто не увидел, даже Катя, как горят жандармские глаза.
Первая монахиня в ужасе начала вновь креститься.
– Мой дорогой друг, – Кате недостало сил посмотреть Лисицыну в лицо. – Сегодня мы говорим об этом в первый и в последний раз. После рождения дочери я прошла обряд очищения и приняла постриг.
Глаза исправника медленно погасли – так медленно угасает волшебная лампа Якоби, когда естествоиспытатель, демонстрируя опасный опыт, передвигает ручку реостата.
– Прощайте, сестра, – таким же ровным голосом, которым он только что объяснялся в любви, произнес молодой жандармский подполковник. – Не волнуйтесь ни о чем. Только позволите, я буду приводить свою дочь на службы в монастырь? Разумеется, когда она вырастет.
– Вот, – Катя протянула Лисицыну уже знакомый нам черный мешочек. – Возьмите… Станете тратить на… – она запнулась, – на дочь по своему усмотрению.
Лисицын молча сунул мешочек за борт мундира, повернул лошадь и действительно шагом поехал от монастыря прочь.
… А далее начинается жизнь Екатерины Павловны Лисицыной – сначала маленькой-маленькой, обожаемой строгим отцом и монашками в Кутье-Борисовском монастыре прелестной девочки, потом маленькой, но вовсе не испуганной незнакомым местом и отсутствием рядом любимого папы – отцовское воспитание! – смолянки[242]. В Смольный не принимали барышень, чьи отцы имели чин ниже полковника или равный по табелю о рангах чин статского советника, да Павел Ильич к шести Катиным годам уж давным-давно был полковником и служил уже в самой столице, в Питере, в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Да-с, дорогие мои, а потом, по окончании курса, продолжилась жизнь самой молодой и самой – по общему мнению – красивой преподавательницы Смольного института, а потом студентки Цюрихского университета Катарины Лисисин. Katarine Lisisin – эдак вот, с некоторым китайским акцентом оказалось написано в ее швейцарском паспорте и в швейцарском дипломе врача. И действительно, когда эта Катька Лисицына хохотала, синие ее глаза превращались в щелочки, вдруг делая совершенно русскую девушку похожею на китаянку.
Молодая фройляйн Лисисин ни в чем себе не отказывала, поскольку мать, умершая ее родами, оставила ей очень приличное состояние, но, в общем, скромную достаточно вела жизнь и даже, полагая необходимым служение обществу, работала в женской клинике простым палатным врачом. Посылала деньги вышедшему в отставку отцу. Делала благотворительные взносы.