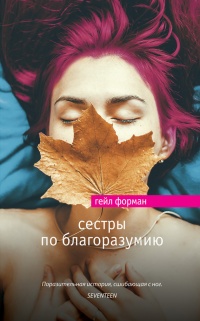Книга Аппендикс - Александра Петрова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Беззаботность? Свобода? – Петр сегодня говорил как по-писаному, избегая их местных словечек. – Их для меня все равно больше не существует. Ну, может, больше не приду, прощай тогда, Ольга, – он прихватил обратно коробки и бесшумно вышел в сени.
В ту ночь горел старый парк. Пожар потушили, деревья почти все уцелели, кроме одной старой липы и нескольких юных, что стояли к ней ближе. Обуглившиеся стволы спилили вскоре до пней.
– Почему он вам кланялся? – остановила она как-то раз на улице Розу и Леонида.
– Ну что ты, что ж нам кланяться-то?
– Сама видела, Леонид Борисович, дед вам кланялся.
– Да добрый просто был человек.
За столом, покрытым клеенкой с вишнями, Леня молчал.
– Ну, – напомнила Оля, – обещали же.
– На детей не тратились, – после получаса пустого чаепития наконец сказал Леня. – Их больше не пулями, а прикладами по темечку стукали и сталкивали в ров еще живыми. С грудничками было проще. Им раскалывали головы о деревья или просто бацали их друг о друга, как арбузы.
Роза сидела рядом, неподвижно глядя в окно. На плите перекипал чайник.
– Меня мама заслонила. И я не умер. А мама – да. Понимаешь, считается, что я не умер. Весь в крови своей мамы, и других соседей, и даже людей, которых я совсем не знал, я тогда залез на сеновал к Зайцевым. Они нашли и помыли меня и снова спрятали на сеновале. А ночью пришел отряд. Полицаи и немец. Кто-то, видно, заметил. Их всех должны были расстрелять, всех Зайцевых, за сокрытие, и маму твою маленькую, и всех ее сестер и братьев, и тогда я встал на колени перед твоим дедушкой. «Дяденька, – я так орал, что с тех пор так и сиплю, – дяденька, простите, что без вашего ведома к вам залез, это потому, что знал, что сами меня не впустите». Полицаи поверили. По их опыту, староверы не помогали таким, как мы. Всех ваших оставили, а меня увезли в телеге убивать, но я убежал. Не знаю зачем. Может быть, чтобы ее встретить. – Он посмотрел на Розу. – Вот и все. Что тут рассказывать? Трудно было. Всем тогда было трудно. Роза, ну расскажи теперь ты. Ну, Розочка, давай, как умеешь, я переведу.
Роза неподвижно смотрела в заоконную тьму на отражение кухни и вместо полуседой женщины видела голые коленки семилетней девочки и опущенную в них голову. Даже так, с плотно зажатыми ушами от воплей и криков, она узнавала голоса друзей: «Дяденька, не убивай, я не хочу умирать!» – это точно Мишка. «Мамочка, милая, помоги» – это Сонечка. А вот – красавица Анька, вот – Борька, который никогда ничего не боялся. Кричали их бабушки и мамы, чтобы отпустили хотя бы детей, орали и матюгались полицаи. А ее юная мамочка не кричала. Она хотела, чтобы все поскорее закончилось, боялась, что Розу могут найти. Когда наступили сумерки, Роза выбралась из фугасной воронки и растворилась в морозном мареве.
– Огненной Розой ее прозвали уже у партизан. Могла пролезть в любую щелку и заминировать бесшумно что угодно даже под носом у охраны.
Леня держал в своей руку немой Розы. Этот недуг овладел ею внезапно лет пять назад.
– Роз, давай отдадим ей, а? Оставить-то некому, – вошел на кухню Леня, держа в руках два блестящих металлических предмета. – Давай?
Уголком пестрого платка подтерев глаз, Роза кивнула.
На бабкины поминки Оля вошла босой и бритой. Она не помогала матери и родственницам в приготовлениях, не молилась, а просто сидела в углу. Из доброй плехи она стала теперь прыпадошной, и народ давно уже обходил ее стороной.
Бабушкин и дедов дом со сказочными резными ставнями, скамейкой и крыльцом и со всем, что там было, они с матерью обменяли на шестьсот долларов. Триста пятьдесят сразу ушли на Олину визу, автобус и дорогу. В чемодан она положила складень, несколько фотографий, старого плюшевого медвежонка, несколько пар одежды и отлитые когда-то дедом из гильз самолетик для Лени и стакан с выгравированной розой для Розочки.
Высадили их, как потом оказалось, в Салерно, перевозчики убежали. Город и природа вокруг ошарашили ее с первых минут. Какое-то время, лежа рядом с еще шестью женщинами и тремя мужчинами-попутчиками на своем куске картона, открывая утром глаза, она сразу же их закрывала, не смея верить синеве. Горы окружали залив, а у подножия жались друг к другу, как будто испуганные овцы, белые дома. За горами вдали сияла гряда заснеженных вершин. Запахи цветущих деревьев будоражили по ночам. В одну из них она проснулась от мокрети на щеках и, утершись, догадалась, что не небеса, а сама она тому причина, и лавиной все, что не вылуплялось в течение многих лет, выхлестнулось за минуту. На следующий день она писала матери, что когда хорошо заработает, вместе они поедут в какой-нибудь другой город, маленький или большой, а лучше – в большой, в маленьком тесно от воспоминаний всех его жителей, живых и мертвых, да и потом из маленького все равно все хотят перебраться в большой, и купят там квартиру. Она уже было закатала рукава, но повстречавшиеся на рынке украинки, которых была здесь тьма-тьмущая, объяснили, что в столице больше возможностей, что тут места уже все разобраны, а там еще можно – сиделкой, на них в этих краях немалый спрос, а с такой-то красотой, может, и вообще найдется что получше.
Воспитатель уличал обосравшуюся девочку Таньку Роз. Каждую ночь она наваливала кучу. По утрам воспитатели и медсестры пилили ее перед всеми. Уже почти год я жила в санатории, но до этого произошло так много всего, что каждый день вспоминалось что-то новое.
Мне было шесть лет, когда однажды весной отец опять уехал в командировку в город Караганду. Оттуда он переправился в Новосибирск и больше уже никогда не вернулся.
«Там растут высочайшие в мире кедры», – писал он мне в письмах.
Летом, валяясь на песке Балтийского моря, я снова превратилась в негритенка.
Нет, все-таки в командировку он уехал на год позже, а тем летом он, Дымши и мать жили в доме отдыха, и мать писала мне письма, как отец носит ее на руках по полю ромашек. Заведующая детсадом Людмила Александровна, которая, конечно, была влюблена в моего отца, читала и перечитывала мне это письмо много раз.
Осенью, когда я вернулась домой, нам рассказали, что Дымши сбежал. Его видели на сосне пожирающим белку. Наша с сестрой жизнь ненадолго осветилась под новым углом: оказывается, мы знали преступника и каннибала, как родного брата! Мы, можно сказать, ели с ним из одной тарелки! Со временем яркая память о хвостатом разбойнике затянулась марлей ежедневности, но в передней, в углу рядом с огромным мешком антоновки, все еще стоял ящик с песком для Дымши. Потом ящик выкинули.
Зимой я лежала в больнице до самой весны. И вот на следующее лето отец отбыл в командировку. Он писал мне письма, белокожая Людмила Александровна в купальнике в черный горошек лежала в тени скудных деревьев с листом подорожника на красном носу и читала мне их вслух, хотя я уже прекрасно могла читать и сама.
«Как странно, – сказала она однажды, – год назад папа носил твою маму на руках по полю ромашек, они так любили друг друга. Помнишь, как они приезжали к тебе в родительский день вдвоем, такие счастливые?»