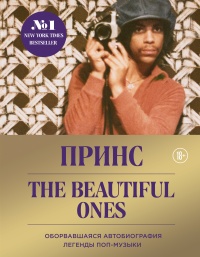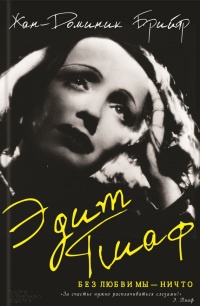Книга Лариса Рейснер - Галина Пржиборовская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лариса Михайловна почти каждый день в Тиргартен-парке занималась верховой ездой. Мальчишки, подававшие ей лошадь, были уверены, что она – скандинавка. Русскую в ней из непосвященных никто не признавал. Когда началось восстание в Гамбурге, Лариса Михайловна уехала туда. Мне повезло уехать вместе с ней».
Рассказывая об одном из вечеров, проведенных в кругу интересных людей, Абрам Владимирович лукаво улыбнулся и произнес: «И вот вошла Лариса Михайловна и, знаете, как-то хорошо, светло стало вокруг. Я тогда был мальчишкой. И Бухарин был влюблен в Ларису Михайловну и говорил, что Радеку – черту, незаслуженно повезло».
Из писем Ларисы Рейснер родителям:
«Никогда еще не работала с человеком более близким по тому „fason de parler“, который царил еще на Зелениной – никогда таким коренным образом не училась политическому зрению и знанию, которого, увы, несмотря на все „чтения вслух“ – у меня нищенски мало…
…Мои единственные, вся моя любовь, как я вам бесконечно благодарна за то, что помогли уйти от компромисса, от полной интеллектуальной гибели, это-то я теперь вижу. Бедного (Раскольникова. – Г. П.) всей душой жалею, плачу еще иногда, и вы его пожалейте, если придет – но ничего изменить нельзя.
О Гоге послала письмо в Восточный отдел Коминтерна, дано поручение его отыскать и использовать, надеюсь, что там ему удастся устроиться хотя бы временно. Так безумно жаль, если его восточный опыт пропадет даром. Веру милую люблю и поздравляю. Хоть останется что-то от нашего сумасшедшего революционного семейства (в это время Игорь женился первым браком. – Г. П.)… В книге «Афганистан» на статье «Вандерлип» надо написать «посвящается Раскольникову». Я ему давно и крепко обещала. По существу нельзя было совместить … (неразборчиво) и его Ф. Я любила его» (далее листок из письма оборван).
«К. (Карл. – Г. 77.) взялся за мою запущенную голову, обложил меня книгами, заставил читать, не позволил уйти в частную по отношению ко всегерманской революции – партийную работу, сделал все, чтобы дать мне почувствовать прошлое Германии, ее политическое вчера, позорное разложение, словом, все, чему сам учился так много лет. Но так как при неслыханной травле, которую полиция вела по его следам – каждый мой неловкий шаг мог погубить все дело – мне на время пришлось совсем отказаться… от всякой связи с интеллигентными и иными праздно болтающими кругами, догнивающими на шее Германии…
Я не могу вам сказать, что для меня сделал этот человек, обеспечивший мне свободу труда, расшевеливший в моей ленивой и горькой душе творческие струны… Может быть, он только слишком щадил меня – хотя зная его безжалостную щепетильность, думаю, что это делалось из целесообразности, чтобы потом, когда я встану на ноги, партия взяла от меня больше и лучше, чем бы это было теперь. К. фрейдист. Будет говорить с папой. Во всем, что касается духа – будет, думаю, союзником. Я очень жалею, что не могу быть при Вашем знакомстве. Милая Ma, только одно: пусть личная горечь – как она ни справедлива, не помешала ему увидеть трагический, чисто принципиальный стержень нашей жизни. Прошу тебя, не сердись».
Лариса Рейснер вернулась в Москву в середине января. И уже 19 января 1924 года Федор Раскольников пишет ей записку с просьбой о второй встрече.
«Плетцуня моя родимая, милая, любимая головушка, маковый цветочек! Безумно нужно мне тебя, кизотную, повидать. Наша бурная первая встреча, вполне естественная после 9 месяцев разлуки, нарушила всю программу наших разговоров. А ведь нам нужно о многом поговорить.
Давай увидимся сегодня или завтра. Я постараюсь держать себя в руках и по мере возможности не расстраивать мою малютку, шлепнувшуюся в арычек, откуда мне так хочется вытащить ее…»
Федор Раскольников вернулся из Афганистана в декабре 1923 года. Перед отъездом в октябре афганское правительство наградило его орденом.
В начале 1924 года вышел «Фронт» Ларисы Рейснер (рисунки и обложка Р. Мазель. М.: Красная новь. 130 с), и счастливый автор первой настоящей книги подарила ее Федору Раскольникову.
«Милый Пушитончик, моя ощущаемая супруга, моя неисцелимая любовь. Огромное тебе спасибо за твою книжку – эту прекрасную поэму о нашей любви под выстрелами… Знаешь, почему бы нам не встречаться, почему бы нам не продолжать наше духовное общение? Ведь мы очень большие друзья. Разве это нормальное состояние, когда мы, живя в одном городе, сидим по разным углам и довольствуемся случайной информацией друг о друге. Само собой разумеется, что наши беседы должны протекать спокойно, без всякой истерики. Я думаю, что мы оба в этом отношении сумеем с собой совладать… Мне кажется, что мы оба совершаем непоправимую ошибку, что наш брак еще далеко не исчерпал всех заложенных в нем богатых возможностей. Боюсь, что тебе в будущем еще не раз придется в этом раскаиваться. Но пусть будет так, как ты хочешь. Посылаю тебе роковую бумажку».
«Роковая бумажка» – согласие на развод. Но развод с Раскольниковым затягивался. Да и Радек не разводился с женой.
Девятнадцатого февраля 1924 года Лариса Рейснер получила вид на жительство как «гражданка г. Люблина Л. М. Раскольникова. Замужняя».
После Афганистана Федор Федорович работал в Исполкоме Коминтерна, главным редактором журнала «Молодая гвардия». В это время выходят из печати его воспоминания, рассказы, впоследствии пьеса «Робеспьер», исторические, литературные, политические, дипломатические очерки.
С 1 января 1924 года удалось провести денежную реформу. «1 миллиард рублей 1923 г. равен 25 копейкам», – пишет в дневнике К. Чуковский. Первая стабилизация экономики благодаря нэпу состоялась, и сразу после нее – смерть В. И. Ленина.
У Ларисы Рейснер был пропуск «на право прохода в Дом Союзов к телу Председателя Совета Народных Комиссаров». И пропуск на заседания 11-го съезда Советов Союза ССР (на трибуну). Организация СССР – последний подарок судьбы умирающему. 21 января Ленина не стало, 27 января в «Известиях» печатается очерк Ларисы Рейснер «Завтра надо жить, сегодня – горе».
«В Колонном зале лежит мертвый Ильич, и мимо него день и ночь проходит Россия.
Это могло случиться не сегодня, а пять лет назад, когда истеричная баба вогнала свои пули в этот огромный, угловатый череп, в котором думало и пульсировало будущее пролетарской России… Не мог Ленин тогда умереть, – революция, в те дни еще молодая, свалилась бы вместе с ним… Чудом были все эти годы неслыханного труда, ни разу или почти ни разу не прерывавшегося для отдыха. Считали – так и полагается: над Кремлевской стеной гаснут к утру и вечером зажигаются белые огни; приходят и уходят вереницы людей. Приходят озлобленными, больными внутренней неуверенностью, сбитые с толку; уходят насыщенными, знающими зачем, как и куда, уходят, разнося по России кусочки его бессонного мозга, а Ленин где-то там сидит всегда.
А болезнь уже сидела в нем, потихоньку умерщвляла огромные и нежные клетки мозга, одолевала стенки сосудов сухим и ломким панцирем склероза. Сколько раз он рвал на себе веревки, потихоньку накинутые, потихоньку затянутые болезнью. Вырывался из лап паралича, стегал омертвелую свою память кнутами воли, пинками подымал с земли в изнеможении упавшее сознание, и два раза отброшенный ударами в детство, два раза из него вырастал в гиганта: учился говорить, терял одну область восприятия за другой и завоевывал их назад…