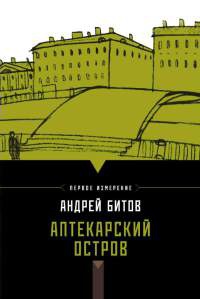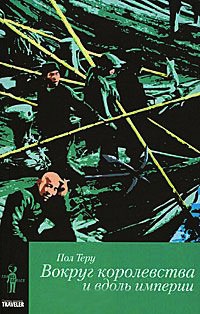Книга Книга путешествий по Империи - Андрей Битов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
1967–1969
Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел.
Лермонтов
Пытаясь доказать, что что-то является чем-то, ты теряешь это всецело.
Сюжет обладает той особенностью, что должен оказаться исчерпанным. Вступив в него, другим лабиринтом не выйдешь. Стоит сделать что-либо один раз, как ты уже приобрел опыт; стоит приобрести опыт, как он тут же окажется неупотребимым, зато тебя призовут если не в специалисты, то в свидетели: «Иванов умер на ваших глазах? — Так вот Сидорову нехорошо». В этом смысле специализироваться — это подчиниться первому случаю: стоит сказать «раз», потребуется считать до трех.
Стоит решиться — само пойдет в руки…
Стоило однажды восхититься новым грузинским кино, стоило попытаться разобраться в истоках такого успеха, хотя бы на одном примере, — как стало слишком мало, как почти все осталось за бортом… Пришлось начать снова, чтобы проверить и убедиться, что ты был прав.
Повод удостовериться представился мне внезапно и сам собою… Я воспользовался заманчивым предложением отправиться в Грузию «выбирать натуру». Нет более счастливого времени в «съемочном периоде», чем выбор натуры! Волнения запуска в производство — позади, горечь поражения впереди. Ты пользуешься правами человека, от которого всего можно ожидать. Впереди одни перспективы, как вид, разворачивающийся из окна «газика». Лобовое стекло — кадр. (На каком замечательном фоне разворачивается иной кинофарс! память о том, с каким высоким чувством было начато…)
«Ты увидишь Грузию такою, как она у меня здесь!» — постучит друг себе в грудь, соблазняя меня поехать. Значит, он предлагает заглянуть ему в сердце — это уж слишком… Уговорил, уговорил.
Изволь, я еду.
Оправдывать случайность этих замет можно не только тем, что они были утрачены (впрочем, вместе с чемоданом…), не только тем, что они к тому же еще и не написаны, но и тем, что они не могли быть написаны. Вот эти воспоминания…
…Я был готов расстаться с жизнью. Причина уже не была мне важна. Невыносимость ее была еще жизнью, и тогда я был не готов. Теперь и невыносимости не стало. Ничто не казалось мне. Из всех тридцати трех, исключив разве младенчество, — время просыпалось у меня меж пальцев, и вот что осталось на ладони… Песчинки эти молчали. Я пытался расковырять эти сгустки молчания — полагал это задачей. Возможно, такой поединок даже нравился мне, и именно своею обреченностью. Из всех функций слова меня увлекало — проникновение… Я полагал, что возможно и не вернуться. Я возвращался из этих теснин. Ободранным, но невошедшим. Ибо сильнее страха смерти (его, мне казалось, у меня уже не было), сильнее жажды истины (она, мне казалось, у меня была) оказывался во мне страх замолчать. Нет, вовсе я не хотел постигнуть! Я не хотел умирать.
В Грузии я писал о России, в России — о Грузии… Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсово. Времена года и места действия и описания складывались и перепутывались в моем мозгу, упраздняя реальность… Костромская деревня Голузино или подмосковное Голицыне почему в них должны были накатывать на меня тбилисские видения, чтобы, оказавшись наконец в Тбилиси, писать о Ленинградском зоопарке? Не знаю. Но по той же причине в легендарной Вардзии я мечтал о птицах Куршской косы…
Империя путешественника — другая планета. Разное солнце освещает метрополию и провинцию. Двойное солнце слепило меня и оттуда и отсюда; я отбрасывал две тени. И когда я смаргивал наконец-то эту слепоту и тлен, то подчинялся. Счастье соответствия владело мною секунду, пока я, отрешась, предавался чужому чувству родины. Лазутчик и захватчик! Я хотел импортировать домой то, что у них оставалось: принадлежность себе. Не тут-то было! Только оттуда мог я увидеть свой дом, только оттуда — в нем себя ощутить. Дома я начинал тосковать по утрате этого чувства. Воистину только в России можно ощутить ностальгию, не покидая ее. Великое преимущество!
Захватив, я оказывался пойман. Эта традиционно-русская способность проникаться чужим существованием (Пушкин, Лермонтов, Толстой…) оказывалась российской, оборачивалась… Какому воинскому подразделению можно приравнять «Кавказского пленника» или «Хаджи-Мурата»? Существенна безупречность художественной формы — не выбиться из-под образца… Трудно заявить, что они написали плохо. Написать — можно. О чем бы мы ни писали… Но силу духа не займешь у соседа: дух наливается силой лишь на своей, пусть сколь угодно бедной почве.
Я не хотел постигнуть. Я хотел — отторгнуть. Любое добавление к славе (в том числе и мое), любое (сколь угодно заслуженное!) признание со стороны — есть предвестие конца, есть захват и присвоение. Почему-то за любовью признано неоспоримое право. Между тем следует спросить того, кого любишь: нужно ли ему это, безответное, льстит ли… Права любимого не учтены. Он — жертва нашей страсти.
Но не надо и преувеличивать. Нас не спрашивают. Нас не спрашивают даже родители. И акушеры в каком-то смысле приближают человека к смерти, что и есть норма жизни. Нормальный ее абсурд.
Слово «корма» произнесено. Я обопрусь на него, чтобы суметь сказать о норме. О той прекрасной, желанной, долгожданной, как вода и воздух. Раз уж их не хватает, воздуха и воды.
Помнится, в детстве было это нормальным словечком, почти жаргонным, почти от бедности словаря и недоразвитости, — но почему-то именно это словечко: «нормальный парень», «нормальное кино», с восклицательным знаком, как превосходная степень. «Норма» была окружена «не нормой» более разнообразно: «псих какой-то ненормальный, недоразвитый…» или «вранье, глупости», — короче, «да ну его!». Общеизвестно, что дети, как и собаки, ненормальностей не любят: уродов, пьяных, фальшивых… — тут они категоричны и строги. У них обостренное чувство нормы. Лишенное гуманизма.
Позже «хлебной нормы», в менее голодное время, смысл «нормы» как ходового словечка стал более снисходительным: нормальное — в смысле неплохое, но и ничего особенного. Еще позже, ближе к нам, — даже пренебрежительное: в смысле «всего лишь», в смысле «и только». Будто сами-то мы стали безусловно выше нормы, мы ее превзошли и привыкли обращать свой взор лишь на что-то из ряда вон…
Так развивалось это слово, по крайней мере вокруг меня, вместе со мной. Пока не наступил день совсем уж сегодняшний, когда в слове «норма», как мне кажется, снова забрезжила возможность почти прежней, детской его жизни.
Все как будто стремишься куда-то. Все стремишься, стремишься, все куда-то и куда-то. Вперед и вверх. Вдруг запыхаешься, то ли устанешь, то ли состаришься бегучи, глядь — а стоит ли что-нибудь по назначению и удобно? Стоит. И вроде бы не стоит: как-то криво, кое-как, на бегу, недорисовано, недоделано, даже недоброшено рисовать или делать…