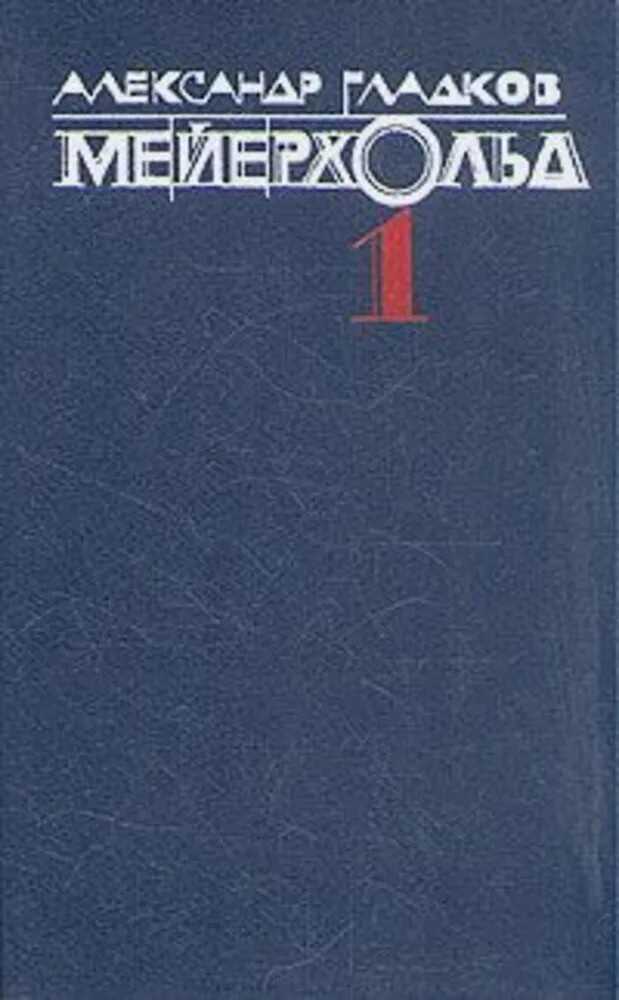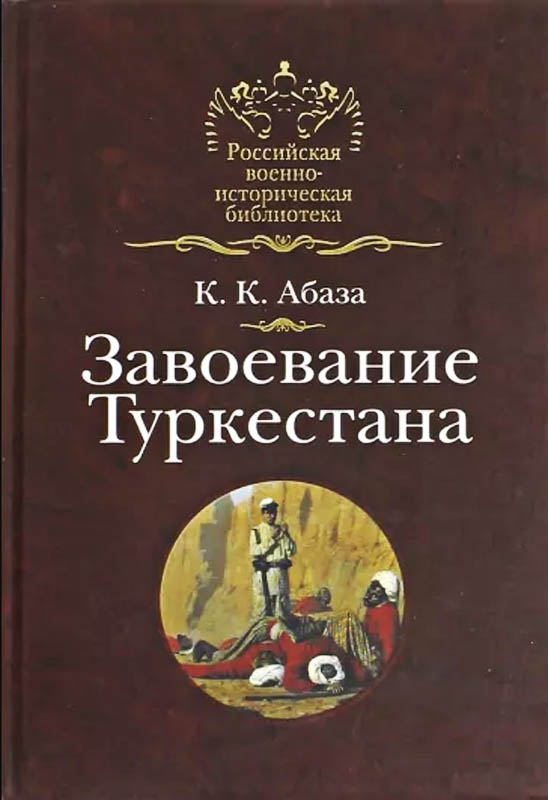Книга Мейерхольд. Том 2. Пять лет с Мейерхольдом. Встречи с Пастернаком - Александр Константинович Гладков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой,
Свеча горела на столе,
Свеча горела».
Я слушаю знакомый голос Б. Л. с его носовым, низким тембром, с его протяжными гласными, и мне кажется, что эти стихи можно читать только так, только этим голосом, только в такой же метельный и снежный зимний вечер, как сегодня…
Б. Л. окружили актеры. Я отошел в сторону, но до меня доносились пышные и банальные комплименты, произносимые хорошо поставленными голосами. Впрочем, я не сомневался, что они искренни: актеры умеют увлекаться. Пожав полтора десятка рук, Б. Л. вырвался из круга и, увидев меня, снова подошел и спросил, не помню какими словами, о моем впечатлении. Что я мог сказать? Я пробормотал, что я недавно впервые в жизни прочитал прозу Цветаевой, как-то сопоставил это и сегодняшний вечер и выговорил нечто уже совсем невнятное про «праздник». Б. Л. неожиданно обнял меня, неуклюже поцеловал в щеку около уха и несколько раз повторил: «Спасибо! Спасибо!» Актеры смотрели на нас с почтительным недоумением. В коридоре показались знакомые Пастернака. Я стремительно простился и быстро ушел, словно боясь расплескать что-то, что дрожало и билось во мне и комком подкатывало к горлу…
В конце мая я снова встретил Б. Л. в нашей писательской сберкассе. Он был в белой панаме и светлом костюме, моложавый и красивый. В городе уже давно ходили слухи о его новом «серьезном» увлечении. Мы вместе вышли и постояли недолго у его подъезда.
Он сказал, что недавно читал четыре часа подряд приехавшей из Ленинграда А. А. Ахматовой законченную первую часть романа.
— Я так ее уморил, что у нее чуть не начался приступ грудной жабы…
Он старался держаться беспечным, и разговор не вышел из границ легких шуток. Спросил, когда у меня премьера.
Я сказал, что репетиции затянулись и, наверно, пьеса пойдет только к началу сезона.
— Обязательно пригласите! — сказал Б. Л.
— Конечно, Борис Леонидович!
Он вошел в подъезд.
Девятнадцатого сентября у меня в дневнике такая запись:
«Золотая осень сменилась ненастьем. По городу ходит рукопись первой части романа Пастернака. Через несколько дней получу: мне обещал ее достать Т.».
Но 1 октября 1948 года, как раз в день генеральной репетиции моей пьесы, я был арестован. Премьера не состоялась.
4
Прошли годы.
В августе 1954 года — в самом начале потока «реабилитированных», ехавших из лагерей, — я возвратился в Москву после почти шестилетнего отсутствия. И вскоре в той же писательской сберкассе в Лаврушинском, где в последний раз встретил Б. Л. Пастернака, я снова увидел его. Когда я вошел, он заполнял чек у окошечка контролера. Я его окликаю. Он поворачивается, всматривается, узнает, обнимает и крепко целует.
— Уже слышал, что вернулись, — сказал он, не понижая голоса и не обращая внимания на окружающих. — А я вот не исправился…
Фонетически это прозвучало по-пастернаковски так: «А я во-от не испра-авился»… Я обрадовался этим знакомым протяжным гласным как чему-то родному, утерянному и вновь обретенному.
А семантически здесь подразумевалось то, что я, освобожденный из «исправительно-трудовых лагерей», предположительно — в соответствии с буквой закона — «исправился», а он, Пастернак, за это время проделал противоположный путь. Это было, конечно, только шуткой, каких множество бывало в его речи: не остротой, а юмористическим оттенком, без нажима: поняли — хорошо, не поняли — дальше…
Заново поразила меня обычная манера Б. Л. очень громко, не обращая никакого внимания на присутствующих и прислушивающихся, говорить в общественных местах. Может быть, это ошибка памяти, но я не запомнил его говорящим вполголоса, наклоняющимся к собеседнику и понижающим тон, шепчущим, старающимся, чтобы не услышали, не обратили внимания. Мы-то все годами приучались говорить тихо, и только для собеседника, и иногда меня с непривычки смущала эта открытость, эта громкость, за которыми ощущалась завидная внутренняя свобода, сначала пугавшая, потом восхищавшая и как-то непроизвольно заставлявшая себе подражать. Это тоже было характерным выражением его удивительной естественности, которая везде «у себя», везде «дома», которой незачем таиться и нечего скрывать.
Я много раз отвыкал от этой его манеры и привыкал снова, пока не привык навсегда, и это сохранилось и уже тогда, когда его не стало.
Но в тот день в сберкассе меня еще смущало и связывало, что нас слушают, что на нас смотрят. Еще так недавно я ходил под конвоем и сейчас скован смущением, словно только вот в эту минуту, с этой не оглядывающейся вокруг громкостью речи, открытостью поведения ко мне пришла та полная свобода, которую я еще не научился с долгой отвычки чувствовать.
Мы вместе вышли.
Я рассказал ему, как я читал весной в «Знамени» его стихи (кажется, первые напечатанные за все эти годы). Это был цикл «Стихи из романа «Доктор Живаго». А его однотомничек, подаренный им во время войны с такой доброй надписью, мне прислали из дома, и я почти все время заключения возил его с собой. Обыкновенно я читал его стихи по утрам, просыпаясь в бараке раньше остальных, и, если мне что-нибудь мешало, то чувствовал себя потом как будто не умывался.
— О, если бы я знал это тогда, в те темные годы! — сказал Б. Л. — Мне легче жилось бы от одной мысли, что я тоже там…
Я смотрю на него, и мне кажется, что он почти не постарел.
В последующие годы — несколько беглых встреч, обмен приветствиями, разговоры на ходу о пустяках. Как-то он мне сказал, что видел афишу возобновленного в ЦТСА спектакля «Давным-давно»…
Вот видите, я оказался хорошим пророком. Сколько перемен во всем, и в наших судьбах тоже, а ваша девушка-гусар все еще скачет по сценам… — И он грустно добавил: — А мне не повезло в театре…
Зато вам повезло, — сказал я, — ведь после постановки в Художественном театре вашего перевода «Марии Стюарт» родилась «Вакханалия».
Он улыбнулся:
— А вы ее уже знаете? И, конечно, заметили, что она написана наперекор всему, что я писал перед этим и после?
Мое восторженное отношение к «Вакханалии» его как будто даже удивило.
Я сказал ему, что это большое и сложное по содержанию стихотворение, вернее, маленькая поэма, кажется, написанная одним дыханием, в один присест, залпом.
— Это хорошо, если так чувствуется, но не совсем верно. Я написал это почти в два приема, как пишу большую часть своих стихотворений. Но вы правы, оно было неожиданным для меня самого. Это прилив