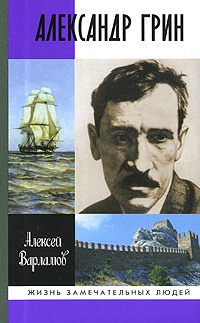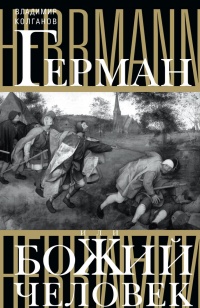Книга Пришвин - Алексей Варламов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А порою приободряясь: «Нет, нужно на все соглашаться при условии оставаться самим собой».
Он оставался не просто государственником, но государственником вдвойне, и по отношению к стране, и по отношению к себе, отлично понимая уязвимость этой позиции в современном ему обществе («Жестокость („без права переписки“) власти безмерная невозможная – это темное пятно в нашем Союзе: для народа все, для личности – смерть…»), но твердо зная, веруя:
«Между личностью и обществом есть люфт, когда и личность может наделать беды обществу, и общество может погубить личность, – и тут вся игра, стоящая целой жизни».
В эту игру он и играл, как умел, а власть излишней независимости, самости не любила и пыталась на него давить. Достаточно мягко, принимая пожилого писателя-натуралиста за юрода и глядя сквозь пальцы на его «шалости», и все же…
«Мелькает мысль, что тебя юпитером просветят насквозь и все увидят, какой ты, – и разорвут».
Та диффузия, о которой писал Пришвин, размышля об отношениях интеллигенции и большевиков, неизбежно затрагивала существо человека, но если для того, кто этой диффузии избегал, была угроза превратиться в своем осажденном «я» в старую деву, то альтернативный путь был чреват не только «просвечиванием», но и опасностями иного рода.
«Плох не Ставский, Панферов и т. п., а я сам делаюсь плох, когда с ними встречаюсь: я делаюсь не я, и в этом состоянии я узнаю себя таким хамом, какого в себе и не подозревал. Долго потом ругаю Ставского за то, что он послужил поводом увидеть себя в образе „хама“.
Какие надменные, какие бесчеловечные слова: «На ошибках мы учимся». Кто это «мы»? Должны бы «мы» знать, что каждая наша ошибка куда-то падает, как грех, и мутит нашу воду и все больше и больше отравляет».
Это звучит почти как покаяние – никогда не был Пришвин так близок к религиозному настроению, как в 1937-м, и не зря этот год в пришвиноведении считается поворотным. Общение со ставскими было мучительно для него, потому что казалось похожим не то на вкрадчивый допрос, не то на пристрастную исповедь, вернее, пародию на исповедь (Ставский ком-поп, Ставский – Легкобытов, Щетинин), и это кощунственное соединение тяготило душу:
«"Читаете ли вы, – спросил Ставский, – написанное вами раньше?"
«Нет, – ответил я, – сам не читаю, надеюсь на редакторов: они исправляют. А разве вам на меня жалуются?» "Еще бы, вы написали: «В советской власти вечности нет»».
В Дневнике не говорится, что ответил на это Пришвин, но известно – что подумал: «А между тем ведь это же единственная продушинка революции, что все эти переживаемые страной бедствия пройдут, что в них вечности нет».
Отчасти в отношении Пришвина к Ставскому, а в его лице – и ко всей советской литературе 30-х годов срабатывала та же модель поведения, что и по отношению к Горькому: внешнее почтение и внутреннее презрение, только фигура была неизмеримо мельче масштабом и оттого почтения меньше, а презрения больше.
Когда в 1938 году две советские писательницы Анна Караваева и Валерия Герасимова публично и наверняка по наущению сверху выступили с жесткой критикой Ставского («Занятый исключительно конъюнктурными соображениями, изыскивающий все способы уязвить своих критиков и вообще устранить все беспокоящие его элементы, В. Став-ский обходится не лучше и с партийной частью ССП, за исключением своих „приближенных“»), Пришвин при том, что, очевидно, входил в число «приближенных», с удовлетворением записал в Дневнике: «Такие женщины, как Караваева или Герасимова, могут за правду постоять». Хотя, возможно, это была всего лишь горькая ирония.
Пришвин использовал Ставского в своих интересах, пребывая при этом в сомнениях: «"Безвыходное положение" у Ставского разрешилось в сторону устройства самого размещанского клуба… Присутствовали на учредит. собрании настоящие дьяволы…
В дальнейшем кумиться с дьяволами и ставить себя от них в малейшую зависимость не надо, ходить туда пореже, однако иногда бывать? Или же послать к чертям… Что-то там нечистое…»[1054]
В самом деле, от Религиозно-философского общества, каким бы оно ни было, до клуба Ставского – хорошенькая эволюция для мыслящего человека! С одной стороны, она сохраняла и узаконивала его положение в советской литературе, с другой – перечеркивала и обессмысливала весь творческий путь, и Пришвин это хорошо понимал: «Вся моя жизнь с марксизмом, непугаными птицами, Павловной и всем-всем исчезает, как бессмыслица, когда думаешь о Клубе писателей. Это два взаимно уничтожающие себя начала».[1055]
Но послать ком-попа к чертям было слишком рискованно, да и потом общение со Ставским не только предохраняло Пришвина от возможных бед (что особенно ярко проявилось во время драматической истории его развода и второй женитьбы в 1940 году), но и принесло немало земных благ, в том числе и тех, которые раздираемый временным и вечным писатель полуиронически-полусерьезно относил к разряду вторых.
«Приятное известие. Когда начался спор о предоставлении мне жилплощади, то встал официальный представитель Союза (кто?) и сказал: „Пришвин такой большой писатель, что никакого спора о предоставлении ему жилплощади быть не может“. И все утихли. Между тем, что другое, а в квартире в Лаврушинском „вечность“ есть».
Все это смахивало на ситуацию десятилетней по отношению к сему эпизоду давности, когда коммунисты, разрушившие пришвинский дом под Ельцом, давали писателю деньги на дом в Загорске, но теперь чувство победы в душе было смазанным – изменилась и стала жестче эпоха, впоследствии через подобные бытовые коллизии и подробности описанная у Трифонова в «Доме на набережной».
Пришвин чувствовал, что его откровенно пытаются купить, и не случайно через пять дней с горечью привел в Дневнике панибратскую реплику Панферова:
«– Такой писатель, а в стороне! Поближе к нам!»
Как ни непросто было ему с разнообразными либералами, сколь ни чувствовал он себя среди них чужим, как иезуитски тонко ни унижала его Зинаида Гиппиус и вся декадентская братия, такого чудовищного разрыва и такой грубой хватки ощущать прежде не доводилось:
«Как далеки они от искусства и как далеко искусство от них (…)».
«Впечатление от Панферова такое, что в душе, конечно, чувствует: все векселя революционера, бедняка и пр. просрочены и что надо укреплять себя в творчестве».
В том и заключалась подлость этого странного союза «правого» Пришвина с «правыми» советскими писателями-функционерами, что им даже не перевоспитать неожиданного союзника требовалось, не переубедить его и не перетащить окончательно на свою сторону, а – добиться от него литературного признания, через Пришвина увековечить себя в истории, ибо помнили они, как хвалил Ф. Гладкова Андрей Белый («Это же симфония, исполняемая оркестром перетирающих друг друга мировоззрений (…) сложение дуэтов, квартетов, секстетов в тонкую ткань архитектоники целого»), и жаждали подобного. Тут речь шла о честолюбии целого поколения, и ставки были высоки: