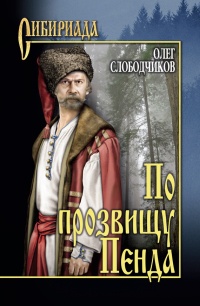Книга На государевой службе - Геннадий Прашкевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дошли до Сретенки. Перед обширным домом боярин усмехнулся:
– Я считал, не дойдем.
– Как так?
– Считал, сбежишь.
– Да зачем?
– Как звать? – вместо ответа спросил барин.
Степка сразу испугался, отступил на шаг. Прикидывал, сразу бежать или подождать второго вопроса?
– Беглый?
Степка отступил еще на шаг.
– Ну, вижу, вижу, что прислониться не к кому? Ты стой, чего дуешься? – Даже засмеялся. – Ну, ровно гусь бернакельский!
Вот когда впервые услышал! Но тогда обидно стало. Почему так? Вот странный барин: и никакую денежку не дал, и дразнится.
– Служить хочешь?
Степка окончательно растерялся.
То, значит, гусь какой-то бернакельский, а то сразу – служить!
Но взял и поверил барину.
В просторном доме у доброго барина Григория Тимофеича аккуратно чистил комнаты, подметал деревянные лестницы, снимал пыль со стен. Раз в месяц специальной влажной тряпицей протирал тяжелые, переплетенные в кожу книги – плотно друг к другу стояли на специальной полке. Дивился страшно: книги не божественные и не хозяйственные. То есть, совсем не такие книги, как у лютого помещика Бадаева. И это казалось – хорошо.
Но сам Григорий Тимофеич жил неправильно.
Всегда важный, ни с кем не водил дружбу. Сидел дома, листал книги, тянул белое винцо. Иногда сладкая баба приходила, в юбке, как в бочке. А всю Страстную пил без просыпу, например, не дался цырульнику поправить обмахратившуюся бороду. А утром в Светлое воскресенье напился еще ужасней. На самом рассвете был пьян, когда люди еще не успели разговеться. Шумел при этом, неистово хулил боярина Милославского. Вот ты, дескать, шумел в сторону Милославского, хоть посажен государем надо мной, над Григорием Тимофеичем Львовым, хоть сидишь в ряду в горлатой шапке, а все равно по сравнению со мной – худороден, истинная собака! Моя ветвь, пусть захудавшая, из самой глубины, а ты, Милославский, совсем незначительного происхождения! Считай, выведен в люди думным дьяком Иваном Грамотиным, а то бы так и сидел в своих деревеньках. Кричал шумно: лучше пить всю Страстную, чем говеть с таким, как Милославский!
Барин ругается, а Степка думает: а сами-то пьете! А сами-то даете советы Господу! Правда, хватало ума вслух такого не говорить. Но страшал:
«Вот смотрите! Сошлют в монастырь!»
Знал про боярина Милославского Илью Даниловича, что это очень непростой человек. Шептались, что растит красивых и скромных дочек, дружит с боярином Морозовым. А боярин Морозов, это все знали, он собинный друг царя. Одно плохо: и тот, и другой широко пользуются советами иностранца Виниуса, воопче льнут ко всему иностранному.
О Морозове, правда, добрый барин отзывался более или менее терпимо: все же растил с дьяком Назаром Чистым царя. Но Милославский! Но Илья Данилович! Добрый барин так поворачивал, что всякие иностранцы через того Илью Даниловича плохо влияют на царя.
Слушая такое, Степка ужасался:
«Ой, сошлют в монастырь!»
«Молчи, дурак! – сердился добрый барин. – В Сергиевской улице видел: в доме напротив церкви молодого мальчика продают пятнадцати лет. А с ним бекешу, крытую голубым гарнитуром с особенными отворотами. Вот тебя продам, куплю мальчика с бекешей!»
Страсть как не любил иностранного.
«От всего иностранного русский человек болеет, – говорил назидательно. – От всего иностранного нам нужны китайки, зендем, язи и кумачи. Ну, может, еще камки. А духу чтоб никакого. Я, – поднимал руку без трех пальцев, – в свое время посылан был в заграницы. Но дышать немецким воздухом так не хотел, что даже пальцы отрубил, чтобы не ехать. У нас не как у иностранцев. У нас солнце взойдет, смотришь – квас, мухи. Хорошо! А от иностранцев только употребление табаку, богомерзкой травы, за которую при царе Михаиле правильно резали носы».
Оборвет себя. Поглядит красными похмельными глазами
«Кругом шиши да шпионы. Грамоту учи, дуралей!»
А в книжке картинка: стол длинный со многими учениками.
Во главе – учитель, неприятно похож на поумневшего лютого помещика Бадаева – скулы острые, седые нехорошие бакенбарды вьются; а на коленях перед ним малых лет ученик – урок отвечает. Еще один пишет, третий, озлясь, таскает соседа за космы. Тут же на лавке секут розгами четвертого.
«Аз… Буки… Веди…»
Самому себе дивясь, Степка самостоятельно разобрал надпись под картинкою:
Ленивые за праздность биются,
грехов творити всегда да блюдутся.
Что ж, подумал, значит, секут провинившегося поделом.
Но и жалел провинившегося – зачем за лень отдавать такому лютому?
В другой книге по слогам прочел молитву Христу Богу. «Иже во христианех многу неволю от царей и от приятелей неразсудных злобы приемлют многи, еще же и от еретик и чревоугодных человек; таков есть глагол прискорбных…»
Ничего не понял. Но будто холодом дохнуло, оледенило сердце.
Полки обнищавшие, Иисусе, вопиют к тебе,
речение сие милостивое прими, владыка, в слух себе.
Еже на нас вооружаются коварством всего света,
всегда избави нас от их злого совета.
Оне убо имеют в себе сатанину гордость,
Да отсекут нашу к тебе душевную бодрость.
И твой праведный закон по своей воле изображают,
Злочестивых к совести своей приражают.
Лестными и злыми бедами погубляют нас, яко супостаты,
а не защитят от твоего гнева их полаты…
Аккуратно смахивал пыль с книг:
«А вот не защитят от твоего гнева их полаты…»
Многие книги у доброго барина Григория Тимофеевича оказались не божественные. Одну, например, Степка перелистывал особенно часто. В ней изображалось всякое мирское зверье: нелепый верблюд с двумя горбами, толстая морская свинья, гладкие морские звери-единороги, и даже старинная птица строфокамил – страус.
Дивен, дивен, Боже, мир твой!
Зачарованно по складам читал некие волшебные слова, напечатанные в конце полюбившейся ему книги: «Клятвенно подтверждаю правдивость сведений указанного ученого Геральдуса».
«Читай вслух», – требовал Григорий Тимофеич.
И подсовывал Степке книгу – «Оглашение!» Ее привез в Москву Лаврентий Зизаний Тустановский – ученый человек. Так и назвал «Оглашение», но патриарх Филарет исправил название на «Беседословие». Якобы (со слов доброго барина Григория Тимофеича) потому переименовал, что «Оглашение», такая книга известна у Кирилла Иерусалимского, а под одним именем многим книгам быть нелепо.