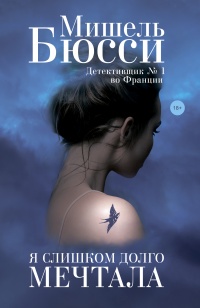Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В начале 90-х обязательную школьную форму отменили, можно было ходить в школу хоть в форме, хоть в одежде для свободного времени. Только последней не было в продаже, а первая была загодя куплена на вырост. Дети отражали те два класса, на которые внезапно разделился город – немногие родители, которые покупали западные вещи, и большинство родителей, которые не могли дать детям с собой в школу даже бутерброд.
Так я незадолго до исчезновения Советского Союза скользила на лучших самоходах 80-х годов в начавшиеся 90-е. Кто-нибудь на Западе когда-нибудь видел такие прочные, ладно скроенные и крепко сшитые, при этом тихие ролики? Разве что где-то в музее остальгирующей по Востоку провинции они ждут чьих-то ностальгических слёз. Плоды металлических конструкторов для продвижения по квартире, по кварталу, по охотничьим угодьям счастья. Они принадлежат истории свободы, неконтролируемой скорости и несуществующей усталости. На этих штуках я не теряла драйва, а если и теряла, то молниеносно снова обретала силы.
Моё воодушевление было заразительным. Другие дети тоже доставали из кладовок ролики старших сестёр и братьев, если не родителей. Только колесики у них были меньше, медленнее и громче. Я на своей последней советской модели целое лето была на пять сантиметров выше, чем обычно, и парила на невидимых крыльях. Наши холмы как нельзя лучше вписывались в ландшафт достижений – то была вершина головокружительной продукции механики.
Гигантские, даже на бесконечно широких проспектах быстрые колёса оживили этот спорт и во всех соседних дворах. Дети мучились на роликах предыдущего поколения из 70-х, мои по сравнению с ними выглядели в нашей республике колёс как космический шаттл. Чтобы не забыть: я мчалась прямиком в лучшее будущее, букеты нелегальной торговой точки у троллейбусной остановки взлетали в воздух, и я зарывалась лицом в их аромат как космонавт после успешного приземления.
Естественно, те магические ролики были слишком тяжелы, чтобы тащить их с собой в Берлин. Я тогда ещё не знала, что это было последнее беспечное лето моей жизни.
Быстро становишься восьми-, девяти-, десятилетней. Забудь ту почву, что была у тебя под ногами. Когда первая мысль по пробуждении была о роликах. Что за изобретение. Памятник твоему детству, вот чем оно должно стать, две вставленных одна в другую внахлёст металлические пластины. Нержавеющая сталь. Эта скульптура блестит на веснушчатом солнце – твоё солнце было в принципе каникульным, – оно сияло ненамеренно на все стороны, так что даже Наташа, которая в свои 14 лет была сложена как фотомодель и поглядывала на детвору с Олимпа своей красоты, доставала ретроролики своей матери и защёлкивала на своих превосходных ногах. Но и она не могла сравниться с тобой, ты превосходила королеву красоты. Это был твой венец, однажды и больше никогда ты не казалась сама себе универсальным гением из русских сказок, который в своих сапогах-скороходах мчится, несмотря на препятствия, сквозь времена и страны.
Ты не хотела отделяться от роликов даже в квартире, ты передвигалась в них по линолеуму и через порожки комнат, внезапно возвышаясь над отметками годового роста на дверном косяке. Незаметно, неслышно толстые резиновые шины молча переносили любые тяжести.
Тебе нравились и старые модели, они походили на маленькие бочонки. Их обладательницам и владельцам они не нравились, они дисгармонично громыхали на мелких неровностях. Они не могли перелетать через корневища деревьев без потери удовольствия. Ты же беспрепятственно носилась по кругу в квадратуре детского сада, от двора к двору, туда отсюда, и когда я вспоминаю об этом, я уже счастлива.
Олег не мог не заметить, что эту моду задавала ты. Он видел, как ты каталась вокруг огромного детсада прямо по проезжей части. Ты не боялась машин. Машины проезжали там редко, но всё же проезжали. А тебе приходилось мчаться по правой стороне с довольно крутой горы, а после спуска вписываться в крутой же левый поворот, чтобы не въехать в открытый подъезд отнюдь не фланельной пятиэтажки. Проехавшись вдоль неё и завернув на другой стороне, ты собираешь весь свой драйв, чтобы преодолеть ту же крутизну вверх. Ту крымизну. Держи себя в руках, не расползайся кашей, разве что в духе братьев Гримм. Тут мне открывается взгляд на ещё один пункт для меню: гримм-холодец. Свежая рыба из Цюрихского озера, застывшая в собственном соку с морковкой и чесноком. Если пожаловаться рыбке на свою беду, она скажет: отпусти меня на волю, и я исполню твоё желание.
Забравшись наверх, ты катишься по грубо асфальтированному участку между твоей многоэтажкой и фронтальной стороной детсада. Наверху немного разгоняешься и предаёшься склону вперёд. Опять и опять, и снова опять и опять.
Моим берлинским племянницам мне не объяснить, что бывают детства, не ведающие ровных площадок, ибо всегда всё идёт либо вверх, либо вниз. Бесконечные детства, в которых застреваешь как в лифте. Где либо выпрямляешься и воспринимаешь нарастающие сотрясения под ногами как массаж, либо до изнеможения сгибаешься на подъёме – будто тренируешься на профессионально смазанных лыжах для последующих подъёмов в гору.
Re-Enactment, от массажа к месседжу: я помчусь на работу на инлайнскейтах. Тогда я успею до того, как она закончится. Пока не попаду в толпу скейтеров и утолкусь на скейтборде, на котором можно держать равновесие при скольжении.
К роликам, только иначе, относится и обучение катанию на самодельном скейтборде первого друга, вечного Олега, и учительница математики, случайно проходившая мимо. Олег крепко держит меня, а я медленно качусь на его доске к краю тротуара. Стыд быть застигнутой за таким занятием со старшим мальчиком, который на всю жизнь преподнёс мне урок, что бывает нечто вроде совместного танца в одном направлении, то есть держась друг за друга. Тонкая ухмылка молодой учительницы. Я же по математике отличница, отнюдь не уличный ребёнок. Она мне это попустила, я себе нет.
Езда ночным поездом между Цюрихом и Гезундбрунненом – CityNightLine прекрасно соотносится с поездом Жадана Сумы-Луганск, такая же удобная. И похожа на ту езду на скейтборде. На длинной подвижной доске, вытянувшись на полке. Лежать до конечной остановки, до начала нового цикла пребывания.
У того непокидаемого, надёжного деревенского русского, чьи следы тянутся по следам Зиновьева в Кострому, разумеется, глаза Олега. Блондинно-голубое живое фото, подлинник, всё к лицу. К тому же неотступно напоминающее в своей театральной жестикуляции и импульсивности о ближнем, который если был дан, то так же внезапно, стремительно и заботливо-сочувственно, а потом снова нет, без устойчивости на асфальте. Но если что – он тут как тут.
Константин, ребёнок-сэндвич, то есть средний из нас троих, девятилетний, звонит из телефонной будки начала 80-х, рядом с родной многоэтажкой, в ближайшую больницу. Его послала мать, она лежит в квартире со схватками, в ожидании третьего ребёнка. В новопостроенном посёлке ещё нет квартирных телефонов. И хотя их вскоре обещают, это никак не сокращает дорогу до телефонной будки: оба лифта в высотке в тот день не работали.
Тётя в больнице уверена, что мальчик шутит, и снова отправляет его к матери. Мама, они мне не верят, что тебе нужна скорая помощь. И тогда мать сама спускается вниз, ступень за ступенью. Звонит. Дело срочное. С третьим-то ребёнком всё по-быстрому. Городская больница переполнена. Родильное отделение закрыло приём рожениц. Беременную везут дальше, на край города, ребёнку уже по легенде рождения суждено аутсайдерство, а то и обязывает к нему. Мать, которой под сорок, что по тем временам было делом нечастым, рождает дитя в необычном месте: в Херсонесе, части Севастополя, а некогда античном городе. С XIX века здесь раскопки, с недавнего времени это место – мировое культурное наследие. Дорические колонны, кое-где сохранившиеся, поддерживают женщину в столь высоком назначении. Дочь можно было бы назвать Дорой. Там по преданию крестился Владимир, который в Киеве на Днепре крестил Русь или должен был крестить, смотря кому и во что верить. Чрезвычайно эллиническое и крайне русское местечко.