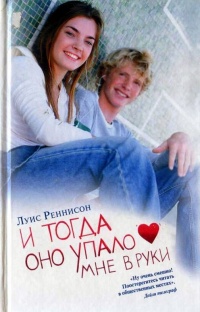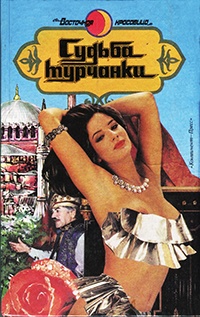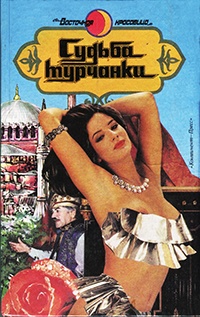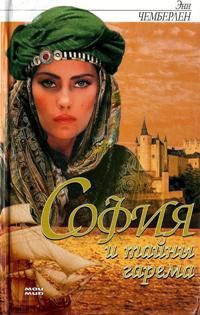Книга Я целую тебя в губы - София Григорова-Алиева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я думаю, надо и мне поговорить с этой Хели… Борис уже несколько раз назвал ее по имени, и так время от времени пошлепывает ее по предплечью или по бедру, показывает нам, что она ему принадлежит; и все блага, которые она ему дала: фээргэшная жизнь, очки в модной оправе, и не знаю что еще, — все это он заслужил, он, а мы не заслужили, и он лучше нас…
Она еще молодая, моложе меня, или это кажется, потому что у нее кожа гладкая. Наверное, она питается свежей хорошей пищей. Одета она в такие тоже выцветшие джинсы и в белую блузку из какой-то хлопчатобумажной материи… Без украшений… Лицо и шея и руки загорелые… Ну конечно, на пляже загорала с Борисом… Без лифчика она… Губы у нее полненькие такие, свежие… Так чуточку она подкрашена… Катя, наверное, определила бы, что это очень дорогая блузочка и очень дорогая косметика, которая так незаметно и естественно оживляет все краски лица… Но я не знаю… Глаза темно-карие. И волосы темно-каштановые, такими спиральками завиваются, и на пробор, и сзади на затылке такой жгутик, и заколочка незаметная… Нос тонкий острый и даже с горбинкой… На какие-то мгновения у нее серьезное выражение, будто она страстно решает какую-то важную для нее задачу; но тотчас улыбается всем этой дежурной улыбкой. Зубы хорошие, белые и большие… Что-то странный этот нос; может, она и не немка, а еврейка… Сначала я злюсь на себя, потому что нам с Лазаром приходится унижаться; после — на К., на Бориса, который всегда был против меня; на эту женщину, на немцев, на евреев… Это, кажется, называется «глухое раздражение»… Какой-нибудь неразумный волшебник если бы сейчас исполнил мое подсознательное желание, вся вселенная погибла бы… Ах, глупо… Хотя бы попробую говорить по-немецки. Другой случай вряд ли будет… Что у меня получится?… Я обращаюсь к ней; говорю, что я хочу немного поговорить по-немецки, у меня нет практики, можно ли говорить помедленнее… Она улыбается и отвечает: да… да… Она смотрит на меня… Кажется, она пытается определить, насколько я похожа на своих единоплеменниц… Это глупо и унизительно… Я — это я… И это моя манера одеваться, моя неловкость в движениях и жестах, мое лицо… А другие женщины — они просто обыкновенные, и в этой обыкновенности своей они лучше меня… Я спрашиваю, в каком городе она живет. Она отвечает… Такой разговор, я спрашиваю — она отвечает… Спрашивать меня ей ни о чем не хочется… Наверное, ей хочется уйти, и ей жаль Бориса, которого мучит этот К. И эта ее жалость сближает ее с Борисом… А мне вот назло становится жаль этого К…. Я спрашиваю, кем она работает. Она отвечает, что она врач. У меня не хватает слов спросить, какой врач. А мы с Лазаром не знали, чем она занимается. Но Борис и Лазар ведь не переписываются, это Лазар случайно узнал, что Борис приехал… Я говорю, что у нас трое детей… — А у вас есть дети?… Да, у нее две девочки, четырнадцать лет и шестнадцать… Значит, это до Бориса. И она не такая уж молодая… Тут я замечаю, что почти при каждом слове делаю такой странный жест обеими кистями, будто хочу взять в ладони лицо собеседницы… Видно, этот жест как-то неосознанно помогает мне подбирать слова… И Лазар заметил этот мой жест… Почему-то он рассердился. Хватает меня за руку, встряхивает мою руку, и шипит, чтобы я прекратила этот нелепый разговор… Все слышат и видят… К. ослабил хватку и уставился на нас уже немного осоловелым взглядом. Борис откинулся облегченно на спинку стула и смотрит презрительно. Его жена демонстративно отвернулась… «Лазар, не надо», — тихонько говорю я… Но ему, конечно, кажется, что я нарочно притворяюсь покорной и ласковой… Но руку мою выпустил… Я встаю. Мне стыдно, я чувствую, что покраснела. Беру пустую уже салатницу и несу в кухню… Пью воду… Когда возвращаюсь в комнату, все понимаю… Так и остаюсь неловко стоять в дверях… Никто на меня не обращает внимания… К. опять взялся за Бориса… Лазар придвинулся к этой Хели, и очень быстро и хорошо картавит по-немецки… Сначала у меня как будто условный рефлекс срабатывает. Всегда, если Лазар заговорил с женщиной, даже близко подошел, я начинаю ревновать… Хотя говорит он только по делу, и лицо у него мрачное, и брови сдвинуты сурово; и ни за кем он не ухаживает, я все равно ревную… И сейчас, когда я вижу, как это он близко сел к ней и так бойко заговорил, меня как будто ударяет волна душного воздуха… Я даже пошатнулась… Но вот я все поняла… Это, наверное, он немного опьянел, иначе зачем такие глупости. Он услышал слово это — «врач». И теперь выцарапывал консультацию насчет моих легких… И ничего не понимал… Какой она там врач, по какой специальности; и ведь она за столом и ей неприятно вести разговор о крови, о болезнях; и, наверное, она испугалась, что сидит за одним столом со мной — все-таки кровь из горла почти каждое утро; и вообще он ведь должен совсем о другом попросить Бориса; нельзя же сразу несколько просьб… Ничего не понимает Лазар… Бывает такое состояние, когда просишь, и уже ничего не понимаешь, и только до слез по-детски обижаешься, что человек тебе отказывает… И ужасно слышать это «я ничего не могу сделать»… И хочешь его унизить, заставить, чтобы он честно признался, что не «не могу», а «не хочу»… Хочешь его унизить этим его признанием… Но зачем?… Человек не хочет — и все!.. Может — а не хочет тратить свое время и свои силы и деньги и связи на исполнение твоей просьбы, твоей мольбы… Он плохой, этот человек… Она плохая, Лазар… Я тоже плохая, я даже сейчас не верю, что ты меня любишь, просто ты не хочешь терять привычный свой жизненный уклад; если я умру, этот уклад нарушится… Она уже отвечает отрывисто и почти не скрывает досады… Нет, она детский врач, она занимается совсем маленькими детьми, новорожденными… Да, если кровь идет горлом, это может быть все, что угодно… Да, зубы, желудок… Да, если уже есть туберкулез… Нужно обследование… Нет, она не знает, как это делается, направление на лечение в другую страну…
Глаза у Лазара такие злые, даже я боюсь смотреть, чтобы не встретиться с этим тяжелым взглядом. Он злится на себя, на свое унижение. Он понимает, что не вытряхнет, не выцарапает из этой женщины хорошее лечение для меня и все те блага, которыми она пользуется, а мы этого тоже заслуживаем; может и больше, чем она; и не имеем… Он уже просто не может остановиться, и ему хочется сделать ей хоть немного плохо, причинить ей неудобство хотя бы этим разговором, этими отчаянными просьбами… И тут она встает, и громко, невежливо (и это нарочно) говорит ему, что извините, ей нужно выйти из-за стола… Борис пользуется моментом, тоже стряхивает с себя настойчивого К., и тоже громко, спрашивает, нельзя ли выпить кофе: напоминает как бы, что пора все это кончать… Лазар теперь встает, велит мне сесть, и сам идет на кухню, варить кофе… Он, конечно, не хочет, чтобы я шла за ним и упрекала его, или чтобы я сама сварила кофе; ему хочется побыть одному, очень измучился… А мне хочется его обнять крепко, и расстегнуть платье и прижать его лицо к своей груди — и больше ничего…
Я помню разговор, который этот самый К. и завел… Эта мода осуждать идею равенства… И кто? Совсем не аристократы по рождению, неудачники, слабые люди… нет, это смешно — такое детское ницшеанство у этого К…. Он выставляет вперед генетику, будто он в ней что-то понимает — нашел боевого слона!.. Но Лазар говорит, что у великих людей что-то не рождаются великие дети; он верит в наследственность на уровне Менделевского горошка — или что он там выращивал, — цвет волос, форма ушей — это, вероятно, наследуется; а когда ему внушают, что дети рабочего глупее детей академика!.. — Но не бывает равных способностей! (Это К.)… — Да боже мой, ни о каком равенстве способностей не идет речь, — о равенстве возможностей! (Лазар)… Пример у Лазара простой: двое хотят поступить в языковую гимназию; одного принимают, потому что у него отец со связями, а другого — нет, не принимают, хотя у него побольше способностей, чем у первого… Я отвлекаюсь на свои мысли: интересно, — думаю я, — а если эта энергия злая, эта способность подличать, заводить связи, выгодно пристраивать своих детей, с успехом идти на компромиссы; если это все — тоже способность, такая же, как способность к математике или к языкам, — что тогда?… Как тогда нам сопротивляться, чтобы нас не утопили, не растоптали, чтобы мы не задохнулись?… нашего мальчика скоро надо будет пристраивать; и тоже мы ведь хотим в гимназию с английским языком; и придется опять унижаться, просить…