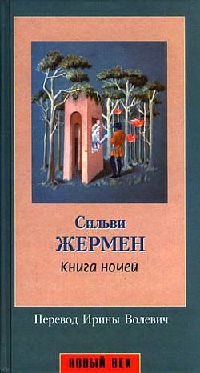Книга Янтарная Ночь - Сильви Жермен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Полина покидала исповедальню всякий раз внезапно. Вдруг вскакивала, иногда даже оборвав фразу, и, не оборачиваясь, торопливо убегала из церкви. А он еще некоторое время оставался там в полном одиночестве, без движения, уперевшись затекшими коленями в дерево маленькой скамеечки. Слушал звук поспешных шагов, скрип двери портала и тяжкое падение тишины. «Я не смог найти слова, — говорил он себе. — Не сумел переубедить. Ее сомнения сильней моей веры, бунт больше моей надежды, боль неистовей моей любви». И всякий раз он выходил из этих прений еще более растерянным и удрученным. И тогда его тоже охватывал страх, словно Полина, внезапно убегая, оставляла его ему, швырнув прямо в сердце. Но он не боролся против этого страха, позволял ему захлестнуть себя, сломить, и, в конце концов, бросить на пол лицом вниз, с раскинутыми крестом руками, в тиши кельи. Он чувствовал себя тогда до такой степени опустошенным, лишенным слов, что даже не мог молиться. Он лежал, распростершись на полу, закрыв глаза и рот, и страдая от этого страха, пока тот не иссякал в нем. До тех пор пока вновь не обретал силы ответить «да» на неотвязный вопрос, который свербил в нем от пределов страха, с самого рассвета: «Любишь ли ты Меня?» Он отвечал шепотом.
Полина сохранила ребенка. Она перестала бороться. Уступила. Но с того дня, как позволила своей беременности развиваться своим чередом, она перестала ходить к отцу Деломбру. Послала ему письмо; коротенькую записку, в которой говорилось дословно: «Вы выиграли. Я дам этому ребенку родиться. Но он мне чужой. Мне все стало безразлично. Потому что не шанс мне достался, а что — то холодное, черствое и горькое: безразличие. Пусть отныне каждый идет своим путем. Мой сейчас не ведет никуда. И боюсь, что то же самое со всеми путями. Будь то ваш. Особенно ваш, быть может. Я не хочу больше вас видеть. Не знаю, должна я, или нет, поблагодарить вас за столь упорное терпение, которое вы проявили по отношению ко мне. Полина Пеньель».
Деломбр не выиграл, он и сам это знал. Ничего не выиграл. Он чувствовал себя более, чем когда — либо, зараженным отчаянием Полины, и более, чем когда-либо, обделенным. Но он не пытался ни вновь увидеть ее, ни писать ей, ибо это лишь усугубило бы страдания молодой женщины. И ответ на неотступно преследовавший его вопрос делался все мучительнее.
Полина снова заточила себя на ферме. Она чувствовала, как раздувается ее живот — словно живот ее сына в чаще леса Привольной Любви, в сине-зеленой тени ветвей. И ее глаза вновь обрели прежний кремнистый блеск. «Уж не произведу ли я на свет сине-лилового ребенка?» — спрашивала она себя с ужасом, вспоминая о тронутом гниением теле Жан-Батиста. Но Без-ума-от-Нее был рядом, еще более заботливый, чем когда бы то ни было, и старался отогнать образ первого сына подальше от их спальни, подальше от тела жены. Он сжимал ее в своих объятиях, успокаивал своей любовью, называл, как прежде, во времена их встреч среди книг в глубине лавки Бороме, «моя принцессочка Клевская». Но она с каждым днем отстранялась чуть дальше от себя самой, от своего настоящего, от своего прошлого, а главное — решительно — от будущего. Молчаливо следовала путем безысходности, путем безучастности. Даже любовь Батиста не могла вновь открыть ей другие пути. Что касается Шарля-Виктора, то он злобно наблюдал за ней исподтишка. Однако бывали ночи, когда он просыпался, весь дрожа, опьяненный тем, что вновь обрел утраченную любовь своей матери. Он вскакивал, бормоча обжигающее губы имя, только что вырвавшееся из его сердца, готовый позвать свою мать, броситься в ее объятия. Но тотчас же спохватывался. Ему случалось до крови кусать себе руки, колени, чтобы заставить умолкнуть имя, подавить зов.
Полина произвела на свет девочку. Она родила гораздо раньше срока, словно торопилась покончить с этим, освободиться от чуждого бремени. Ребенок был совсем легонький и пищал не громче котенка.
Полина боролась. Она даже не знала, против чего. Все в ней смешалось, перепуталось — прошлое и настоящее, живые и мертвые. Но безразличие, проистекавшее из этой путаницы, не приносило ей ни облегчения, ни отрешенности. Совсем наоборот, это безразличие проявлялось как болезнь, сплошь из горячки и исступления. Против этого-то внутреннего недуга она и боролась. Но болезнь была сильна; она действовала втихомолку, как и сама Полина, пытавшаяся не поддаваться ей, вновь загнать туда, откуда пришла. Недуг возвращался, и у этого недуга было лицо и имя: Жан-Батист.
Маленький Барабанщик. Посиневший ребенок с огромным животом. Вот кто возвращался с целым сонмищем образов, запахов, звуков. Полина видела, как снова льет дождь и как три струящихся человека отбрасывают на порог свои огромные тени. Ей повсюду чудились запахи перегноя, размякшей от осенних дождей коры, гниющей плоти. Она видела, как ее руки отбиваются от зверья, привлеченного зловонием падали, — ее собственные руки, обезумевшие, словно умножившиеся в числе. В ее рту стойко держался вкус черной земли, вкус могилы, выкопанной под дождем. Она беспрестанно слышала глухой стук земли и камней, падающих на деревянную крышку гроба. Видела, как деревья — всем лесом — выдираются из своей почвы и начинают шагать. Племя безумных воителей, змеящееся тысячами рук, вооруженное синеклювыми птицами.
Она боролась против неразберихи воспоминаний, но тщетно. Ибо ее память растворилась в ее плоти, забилась во все уголки тела. Сочилась, словно пот из ее сдавленного сердца.
Однако были и другие. Батист, Шарль-Виктор, а теперь и новорожденное дитя. Она пыталась тянуться к ним. Но что-то удерживало ее, беспрестанно отталкивало, и это расстояние было все труднее и труднее преодолеть. Она делала то, что положено матери — кормила ребенка, мыла его, пеленала. Но выполняла все это, словно лишенный смысла и желания ритуал. Делала механические жесты с отсутствующим видом.
Тогда-то и вернулся Шарль-Виктор — через силу, и не к матери, не к отцу, а к новорожденной. Это было так, словно его самого заново произвели на свет. Он хотел этого ребенка — для себя, для себя одного. Младшая сестренка, о которой так мечтал Синюшный Хорек, его старший братец, была дарована именно ему. И именно он выбрал ей имя; попросил своих родителей назвать малышку Баладиной в честь своей дрезины — «шутихи с золотыми ножками и адским задом». Ибо при своей страсти к словам Шарль-Виктор верил в магическую силу акта называния; и, давая своей сестренке имя по своему выбору, он как бы связывал ее с собой священными, тайными и нерасторжимыми узами. «Баладина! Баладина! Сестричка моя, только моя! — кричал он в своих разрушенных дворцах — на заводе, в блиндаже, в нужнике. — Я открою тебе мое прекрасное королевство — ржавчины и отбросов — и ты все обратишь в красоту, а для тебя я стану добрым, да, я — Всегрязнейший и Наизлейший Принц, я стану добрым! Ужасно добрым! Таким добрым, что самого Бога скорчит! Но добрым я буду только для тебя».
Шарль-Виктор не стал ни лучше, ни хуже. Он просто потерял голову из-за своей младшей сестренки. Она была для него всем. Мир вдруг обрел лицо, лицо другого человека — который его не предавал. Мир обрел детство и новый вкус игры. Все становилось возможным.
Тогда-то его глаза и приобрели ту восхитительную прозрачность окаменелой смолы цвета меда и бледного золота. Пятно в левом глазу от этого казалась еще ярче, почти пылало. Но в самом взгляде еще таилось столько мрака и ярости, что никому и в голову не пришло дать ему прозвище Янтарный День. Все называли его: Янтарная Ночь.