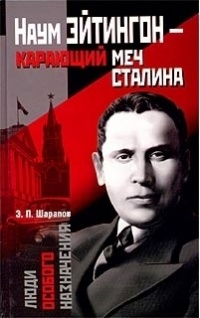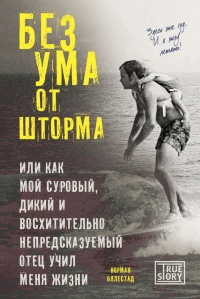Книга Последние капли вина - Мэри Рено
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Флот отплыл через несколько дней.
Некий друг моего отца держал в Пирее большой склад для товаров и разрешил нам, ребятам, забраться на крышу. Глядя сверху вниз на отплытие героев, мы чувствовали себя богами. Все вспомогательные суда с припасами уже ушли, чтобы собраться у Керкиры[194350]; в бухте остались только ярко раскрашенные стройные триремы. Свежий летний ветер с моря вздымал их кормовые флаги; орлы и драконы, дельфины, вепри и львы вскидывали головы, когда высокие носы кораблей взбегали на волну.
И вот в Городе начались приветственные крики - они доносились до нас, словно звуки далекого оползня, и постепенно приближались по дороге между Длинными стенами; затем шум охватил Пирей; все громче звучала музыка и ритмичное громыхание щитов о бронзовые нагрудники. Наконец мы разглядели движущиеся между Стенами гребни шлемов, целую реку, длинную змею, сверкающую по весне новой чешуей, бронзой и золотом, пурпурными и алыми красками. Над ней словно плясали искры света, когда утреннее солнце вспыхивало на наконечниках многих тысяч копий; облако пыли светилось, словно истолченное в порошок золото.
На крышах вокруг нас болтали между собой чужеземцы, дивясь красоте и могуществу войска, которое Город еще сумел выслать после стольких лет войны. Двое нубийских рабов закатывали глаза, сверкая белками, и вскрикивали: "Ох! Ох!". Мы орали, пока в глотке не пересохло. Голос Ксенофонта звучал уже почти как у взрослого мужа.
Воины рассыпались вдоль воды и по набережным; они поднимались на корабли по деревянным сходням или грузились на лодки, пока борта не начинали зачерпывать воду, и переправлялись на корабли. Друзья и родственники уходящих в поход спешили проститься с ними в последний раз. Там старик благословлял сына, тут мальчик бежал к отцу с каким-то подарком, который отправила ему мать; здесь разлучались двое любовников, ибо юноша был слишком молод, чтобы отправиться вместе со своим другом. В тот день не все слезы остались дома уделом женщин. Но мне это событие представлялось величайшим из всех празднеств, лучше даже, чем Панафинеи в Великий год[981431]. Как говорит пословица, сладка война для тех, кто ее не испытал.
Между стенами вновь раздался шум. Кто-то закричал:
– Да здравствуют стратеги!
Потом мы услышали стук копыт и увидели поднятую лошадьми пыль.
Первым под нами проследовал Ламах на взятой взаймы кляче, высокий и угрюмый; он здоровался со старыми воинами, когда они приветствовали его, и оставался безразличен ко всем прочим. Затем - Никий, мрачно-великолепный, с венком на седых волосах, только что после жертвоприношения; рядом с ним ехал его прорицатель со священным треножником, ножами и большой плоской чашей. Свинцовый оттенок кожи, всегда свойственный Никию, лишь прибавлял ему достоинства. Когда он проезжал мимо, люди напоминали друг другу древнее пророчество, что на Сицилии афиняне завоюют вечную славу.
Затем наступила беспокойная пауза, словно затишье перед морской бурей. А потом накатился многоголосый ропот, он слышался все ближе и напоминал шорох высокой волны, впитывающейся в каменистый пляж и волокущей за собой гальку. И тут какой-то юноша с чистым голосом вскричал, будто боевую песнь-пеан:
– Алкивиад!
Словно солнце вышло из-за облаков. Его броня была усеяна золотыми звездами, а пурпурный плащ свисал так, будто складки уложил скульптор. Рядом с ним ехал слуга и вез его скандально знаменитый щит, предмет возмущения и восторга в Городе, с эмблемой[762920]в виде Эрота, размахивающего молнией.
Открытый шлем позволял видеть его лицо - профиль Гермеса и короткую курчавую бородку. Голову он держал высоко; голубые глаза, широко распахнутые и ясные, открывали, казалось, пустоту, требующую, чтобы ее заполнили. Сейчас мне представляется, что они говорили в тот миг:
"Вы хотели меня, афиняне, - я здесь! Не допрашивайте меня, не причиняйте мне вреда; я есть желание, вышедшее из ваших сердец, и если вы раните меня, то кровоточить будут ваши сердца. Ваша любовь создала меня. Не отнимайте же ее, ибо без любви я - храм, покинутый богом, куда придет мрачный Аластор, демон мщения. Это вы, афиняне, вызвали меня, духа-демона, чья пища - любовь. Питайте же меня, и я облеку вас славой и покажу вам вас самих в облике вашего желания. Я голоден, питайте меня! Слишком поздно раскаиваться".
Толпа рокотала, толпа раскачивалась, словно косяк рыбы, влекомый приливом. Потом из какой-то двери высунулась гетера и послала ему воздушный поцелуй. Он помахал в ответ, его затуманенные глаза потеплели, как море весной; и тогда приветственные возгласы зазвучали еще громче, загремели вокруг него. На лице появилась улыбка, словно у отрока, увенчанного на его первых Играх, - молодая, чарующая, охватывающая весь мир. По улице до него прошел Адонис; анемоны, растоптанные лошадиными копытами, запятнали землю, словно кровь.
Стратеги поднялись на свои корабли, сумятица постепенно унялась. Труба разнесла долгий сигнал. Возгласы смолкли, остался лишь замирающий ропот толпы, плеск моря о причалы, крики чаек да лай какого-то пса, которого встревожила наступившая тишина. Едва слышный чистый голос глашатая где-то вдалеке провозгласил обращение к богам. Оно было подхвачено на кораблях и на берегу; звуки наплывали и раскатывались, словно прибой; на корме каждого корабля вспыхивала золотая или серебряная искра, когда триерарх поднимал свою чашу, совершая возлияние. Потом над водой зазвенел пеан, а за ним крики кормчих, отдающих команды к отплытию. Затянули рабочую песню корабельные певцы, задавая ритм гребцам, поползли вверх по мачтам большие паруса, украшенные изображениями солнца, звезд и птиц. И вот так они вышли в море: команды отвечали друг другу песней на песнь, кормчие вызывали один другого на состязание. Я видел трепещущую бороду Никия, когда он воздел руки в молитве; а на корме триремы Алкивиада, уже удалившейся, - маленькую сверкающую фигурку, словно золотую статуэтку размером не больше кукольных Адонисов, которых женщины проносили по улицам.
Паруса наполнились ветром; лопасти весел поднимались и опускались все разом - крылья с ярким оперением; подобно лебедям, корабли полетели с песней к острову. Слезы жгли мне глаза. Я плакал, не в силах вынести эту красоту, как и многие другие вокруг. Счастье афинянам, если слезы, которые придут потом, будут подобны моим.
Вскорости после этого я услышал новость, что Критий в тюрьме.
Некий доноситель клялся, что в ту ночь, когда были разбиты гермы, видел его - он помогал собрать шайку людей в портике Театра и давал им указания. По словам этого человека, луна светила ярко, и он мог бы назвать большинство предводителей.
Услышав это, я все удивлялся, как же мне сразу не пришло в голову, что это Критий, - ибо по молодости своей полагал, будто он один такой на всем белом свете. Когда я проходил мимо тюрьмы, снаружи клубилась небольшая толпа женщин, причитающих и рыдающих; некоторые из них были с детьми. Но я не мог поверить, что кто-то может плакать из-за Крития.