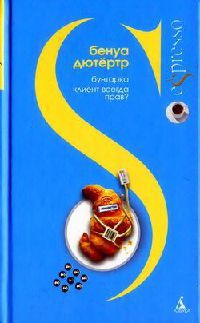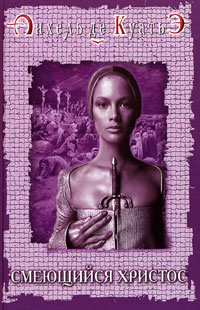Книга Родная речь - Йозеф Винклер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я падаю на серебристую слюдяную чешую моего детства, там, внизу, на берегу Дравы. У меня вмятина на затылке, да, вмятина, наверное, меня вытащили на свет щипцами. Мой увечный ангел-хранитель на костылях сопровождает меня по дороге через мост без перил. Один костыль ломается, ангел падает на доски, я подхватываю его под теплые крылья, поднимаю, и теперь уже мне приходится сопровождать его. Я ангел-хранитель моего ангела-инвалида. На левой щеке у меня появлялась угревая сыпь, которую я всеми силами пытался замаскировать либо слоем крема телесного цвета, либо косметическим пластырем, но справиться с этой сыпью я был не в силах, она появлялась вновь и вновь, всегда только на левой щеке и ни разу на правой. Во время полового созревания я долго не мог избавиться от нее, пытался выскрести ее ногтями, расцарапывая кожу до крови. Таким образом я еще хлеще разукрасил себе лицо, исполосовал его кровавыми ссадинами, которые заживали даже дольше, чем просто прыщи, из-за чего получил прозвище Скребаный. Дерматолог сказал, что у меня так называемая температурная сыпь, но теперь-то я знал, что в деревне и в родительском доме у меня загнила половина головы. Был период, когда меня лихорадило не один месяц. Гной стекал по подбородку, пропитывал воротник рубашки, придавая ему неприятную жесткость. Сыпь всегда появлялась ночью. Я просыпался от зуда, ощупывал в темноте левую щеку и уже не сомневался, что поутру встану с новыми язвочками. В течение дня сыпь разрасталась и взбухала, еще при жизни обозначив рельеф моей посмертной маски. Я боялся, что зуд, вызывавший кровавые расчесы и терзавший меня вновь и вновь, когда за письменным столом я воскрешал свое детство, настолько обезобразит пол-лица, что с одного бока оно станет старым и корявым, а с другого — молодым и гладким, как это случилось с Пиной. Тыча себе в лицо изуродованным работой пальцем, она говорила: «Вот моя старая сторона, а вот эта — молодая», — и мы оба покатывались со смеху. Когда у меня ноготь на большом пальце ноги врос в мясо, мне бы надо было обязательно обратиться к хирургу, чтобы избежать еще одного уродства, но я не пошел к врачу. Ежедневно я проделывал долгий путь от вокзала в Филлахе до торгового училища, и с каждым шагом ногти на ногах все глубже уходили в мякоть пальцев, каждый шаг был сущей мукой, но я любил муку. Казалось, я бреду стезей страданий, словно герой действа, именуемого Страстями Христовыми. Я не мог расстаться с деревней, я повсюду тащил ее за собой; ногти впивались в мясо, щека гноилась, под рубашкой и брюками — женское белье, лицо — как грецкий орех от крема, который я втирал в кожу, чтобы поскорее загореть, на груди — серебряный крестик с распятием, — так вот и одолевал я длинную дорогу. Иисус обитал во мне, как все мы пребывали в теле его, огромном, как сельская округа. Эти вросшие ногти были частью того, что я унаследовал от матери. Она тоже в молодости испытывала такую же боль в пальцах при каждом шаге по деревенской улице — вертикальной балке распятия — и когда на Пасху целовала в церкви ступни Спасителя. По прошествии двух лет я наконец все же обратился к военному хирургу в Филлахе.
Комнате деревенского дома, в которой прощаются с покойником, уж никак не откажешь в пышности убранства. А вот помещения с траурными помостами в общинных залах поражают своими голыми стенами, своим аскетическим интерьером, здесь в гостях — только смерть и никто больше, здесь не увидишь ни венка из маргариток на головке умершего ребенка, ни роз на глазах маленького покойника, который был при жизни слепым. Никаких украшений. Вместе с дедушкой Энцем умерли тогда мое имя и моя фамилия, ведь звали-то нас одинаково. Стоя перед его гробом, я смотрел на траурное объявление, установленное между двумя горящими свечами. Мое имя было написано крупными и четкими буквами на белой бумаге с черной каймой. Все хвалили усопшего за его чистоплотность, и дядя, и тетка, только отец ничего не сказал про это, он привык как украшение носить шлепки коровьего дерьма на руках, ногах и на одежде. Он никогда не надевал ничего, в чем с важным видом любили показаться на людях крестьяне, не жаловал ни суконных, ни полотняных брюк, коричневых или серых, он был единственным мужчиной в деревне, который носил синий комбинезон фабричного рабочего. Дождь становится все слышнее, барабанит по листве и земле кладбища, капли разбиваются, подскакивают, сшибаются, пока одна из них не добирается до крышки гроба и, просочившись сквозь гнилые доски, не падает на веки покойного деда Энца. Мертвец смахивает дождевую воду и утирает рукой глаза. Играя в шахматы, я делаю ставку на пешки, ополчая их против ферзя и короля. Я готов петь от счастья, когда пешки приближаются к победному ходу и теснят ферзя с королем, не оставляя им ни единого шанса. Хочу, чтобы лакеи смотрели на своих вельмож сверху вниз и с улыбкой просили их вытереть ноги. Хочу, чтобы Бог спустился на землю и предстал наконец перед человеческим судом. Хочу, чтобы дома жили в людях. Пусть слова станут числами, чтобы были верны расчеты. Пусть числа станут словами, чтобы ни один ребенок больше не мог ошибиться в счете и отвык от ударов по пальцам. Руки на стол! Линейка свистит в воздухе, но рука уже отдернута. Линейка вновь взлетает, и рука на столе, линейка снова рассекает воздух, чтобы нанести удар, но рука в последний миг срывается с плахи. «Иосиф Пустоголовый, ты опять ничего не знаешь», — говорил учитель, когда я не мог ответить на его контрольные вопросы. Я чувствовал себя так, будто меня прогоняют сквозь строй, когда учитель организовывал пешие походы и приходилось тащиться сначала лесной дорогой, а потом вдоль колосившихся полей в Патернион, чтобы передохнуть на пляже. Учитель пытал меня, указывая на пашню, как называется та или иная зерновая культура. «Надо же, деревенский, а не может отличить рожь от пшеницы и проса». Первую школьную экскурсию мы совершили в столицу Каринтии, заглянув на пути в Гурк, чтобы осмотреть тамошнюю церковь. Каждый из одноклассников не преминул посидеть в крипте в заветном кресле святой Хеммы. «Святая Хемма, помоги мне стать хорошим учеником», — скороговоркой прошептал я. Вот я иду по деревенской улице, на спине — два связанных крестом ивовых прута. Рядом шагает моя сестра Марта, она протягивает мне плащаницу. Прутом, зажатым в левой руке, я гоню перед собой шоколадного жертвенного агнца. Спаситель прильнул губами сначала к левой, потом к правой ладони, вытаскивает гвозди, выплевывает их и молитвенно складывает руки. Если бы Иисус был из плоти и крови, я бы превратил его в деревянную фигуру. Не мог смириться с тем, что есть люди, стоящие выше или ниже меня. Якоб, переодетый кардиналом, направляется с кувшином в руке к своей могиле, поливает заросший горицветом холмик, окропляет его святой водой и складывает руки. Потом он идет в хлев, выносит оттуда новенькую веревку, которую его отец купил в патернионской канатной мастерской, и стегает кладбищенскую землю над своим гробом. Птица смерти, сыч домовый, вышагивал в первом ряду похоронной процессии. Перед каждым перекрестком он издавал предупреждающий крик. Мертвец в гробу поднял голову и ударился лбом о крышку гроба, и хотя удар был смягчен фиолетовой плюшевой обивкой, из лобной пазухи потекла какая-то белая жидкость. «Бог бросит в тебя дубинкой», — любил стращать меня крестный. У меня не хватило бы смелости нанести ответный удар, забросав красный угол горящими полешками из очага, однако мне ничего не стоило вообразить, как я вытаскиваю из очага головешки, сколачиваю из них крест и швыряю его в божницу. Сколько раз я в страхе поднимал глаза к небу и вскидывал руки, словно защищаясь от дубинки, которую может бросить в меня Бог. И хотя теперь я уже избавлен от детского страха перед Господней дубинкой, я все же боюсь, что он, чего доброго, обрушит на мою голову какую-нибудь железяку или еловый сук. Порой я не решаюсь пройти под мостом и, топчась на месте, соображаю, как бы мне этот мост обойти, вдруг его угораздит рухнуть как раз в тот момент, когда я под ним. Когда я заглянул в молитвенник, чтобы узнать, как пишется теа maxima culpa,[10]я обнаружил между страницами засохший клевер-четырехлистник. Деревенская портниха, маленькая горбунья, наверное, только по ночам расстается с ножницами, иголками и утюгом, во всяком случае я ни разу не видел ее без одного из этих предметов в руке, когда входил в ее комнату, всегда наполненную теплом протопленной кафельной печки, при этом я говорил: «Добрый божий день!» — а не просто «здравствуйте», поскольку явился в качестве доставщика церковной газеты. Когда в деревню приезжали отдыхающие из Германии и Голландии и кто-то из них в ответ на мое приветствие говорил: «Добрый день», — я всегда поправлял, поясняя, что в нашей деревне принято добавлять слово «божий». Мне не раз доводилось видеть на протоптанной в снегу тропинке какую-нибудь женщину с перекинутым через руку платьем. Тут и гадать было нечего: она спешит к портнихе, чтобы перешить свой выходной наряд. В этом платье воскресным утром она отправится в церковь и сядет где-нибудь с краю, пусть все видят ее обновку. На Пасху, в светлое Христово воскресенье, я надевал новый костюм, который мне подарила крестная, и по дороге к храму, то и дело поглядывая на рукава, на грудь, на штанины и на новенькие ботинки, заранее чувствовал на себе почтительные взгляды всех прихожан, предвкушая всеобщее одобрение. Нередко я лишний раз подходил поближе к алтарю, чтобы только продемонстрировать лучшую часть своего гардероба. С облаткой во рту я делал крутой поворот у решетки исповедальни и, поглядывая то вправо, то влево, гордо печатая шаг, шел туда, где стояли Фридль Айххольцер, Венгереман, Карл Альберт, Зепп Поссеггер и Фред Лабер. Лиза Блёхингер, занимавшаяся уборкой церковного помещения, перед Пасхой протирала намыленной губкой ступни Спасителя. В Страстную неделю крестьяне и крестьянки, батраки и батрачки спешили исповедаться. Если священнику в напрасном ожидании очередного грешника приходилось на время покидать исповедальню, он, как мне казалось, пребывал в глубокой печали. Я прислуживал при каждом венчании, но не всегда при похоронном обряде, так как от новобрачных и их гостей мы получали кое-какие деньги, и я незамедлительно тратил свои на книги Карла Мая. А в День поминовения нам с Фридлем Айххольцером, облаченным в черные одежды причетников, перепадало десять шиллингов, как награда из рук священника. «Мое сострадание не есть мое соприсутствие», — возглашал священник, рассуждая о погребальных церемониях. Как-то одна резвая невеста просыпала у входа целый кошелек мелочи, двух- и пятигрошовых монеток, которые могла бы сэкономить, но мы тут же расползлись по паперти и начали подбирать «серебро», поднимая глаза к небу и благодаря Господа за каждый ниспосланный грошик. Однажды, когда я опоздал к венчанию, священник у алтаря бросил на меня сердитый взгляд, я встал рядом с другими служками только для того, чтобы потом, после церемониала, занять место у закрытых кладбищенских ворот и собирать у новобрачных и приглашенных деньги в качестве своего рода входного билета. Был случай, когда во время конфирмации нашу церковь удостоил своим посещением епископ. Храм в тот день выглядел как невеста в подвенечном уборе. Мы, причетники, голосили на клиросе Confiteor.[11]«Незабываемо, — сказал епископ, — такого мне еще не доводилось пережить». Многие молитвы заканчивались фразой: «Да будет благословенно угасание наше». Позднее ее заменили другой: «Да будет благословенна смерть наша». Однако некоторые прихожане произносили слова молитвы на старый лад, но их голоса тонули в общем хоре, благословляющем смерть. Я гордился тем, что служанка священника берет молоко от нашей коровы, а ведь могла бы ходить за ним к Кристебауэрам, Кройцбауэрам, Айххольцерам, Кофлерам или Симонбауэрам. А когда в конце месяца она приходила к матери отдавать деньги, я часто усаживался за стол в надежде, что мать не возьмет денег. Иногда она говорила: «В этом месяце вам платить не надо». Я улыбался и поднимал глаза к распятому Спасителю, словно выражая ему свою благодарность, но на самом-то деле мне хотелось, чтобы мать всегда даром поила молоком священника и служанку, чтобы они ничего не платили за хлеб, мясо или сало, ведь священник сделал меня главным причетником. Он же еще и совершал все обряды, в том числе и последнего причастия над бабушкой и дедом. А входя в наш дом, он говорит: «Хвала Иисусу», — я же, стоя в сенях с горящей свечой в руке, отвечаю ему словами: «И ныне, и присно, и во веки веков», — и провожаю в комнату деда и бабки. Когда закалывали свинью, мать отрезала кусок парного мяса и поручала мне отнести его в дом священника. Она заворачивала мясо в вощанку, а потом еще и в газету, и лишь после этого я мог идти с подношением. Извилистой тропой я поднимался к дому священника, нажимал на кнопку заполошного звонка, Мария открывала дверь, и со словами: «Вот, мама прислала», — я отдавал сверток. Служанка благодарила и совала мне конфетки или печенье, я бежал вниз по той же тропе и, пыхтя и озираясь, останавливался у шоссейной дороги. Когда мать вынимала из печи хлеб, мне приходилось через час-другой снова подниматься по извилистой тропе и нажимать светящуюся кнопку звонка, чтобы вручить теплый каравай. Нередко мы с Марией отправлялись после дождичка в лес, чтобы набрать грибов для священника. «Одной, — говорила Мария, — в лес ходить страшно, я змей боюсь, да и мало ли всякого сброда по лесу шатается». Она всегда захватывала с собой колбасу, сыр, хлеб, кофе и какие-нибудь сласти, мы бродили по лесу и собирали грибы-зонтики, белые и лисички. «Больше всего, — говорила Мария, — хозяин любит белые». Когда в хвойном лесу нам случалось наткнуться на целое семейство боровиков, Мария в каком-то нервном азарте принималась срезать грибы. «С грибницей вырывать нельзя, — поучала она, — надо обрезать ножку в самом низу и укрыть пенек мхом и землей, тогда и на будущий год здесь белые вырастут». Еще не научившись отличать пшеницу от ржи и ячменя, я уже был знатоком по части грибов. Со своей взрослой спутницей я и в грозу пропадал в зеленом сыром ельнике, бродил по жарким горным лугам, собирая грибы-зонтики и разные травы. В сочельник, после всенощной, Мария у кладбищенских ворот вручила мне обернутые подарочной бумагой две книги Карла Мая: «По стране скипетаров» и «В Судане». «Спрячь поскорее, — сказала она, — сунь за пазуху». Пятилетним ребенком я вставал в половине седьмого утра, залезал на подоконник и высматривал Марию, которая должна была появиться за поворотом дороги, спеша к заутрене. В ночной рубашке и босиком я выбегал из дому и, топая по снегу, мчался к церкви, но сестра догоняла меня и тащила домой. «Я хочу в церковь, вместе с Марией. Пусти меня». «Но ты же босой и раздетый». С того дня я стал в глазах Марии верным другом, а потом таковым признал меня и священник. В церкви мне было отведено особое место, вскоре я начал помогать при богослужении и даже выбился в первые причетники. Чтобы удержать за собой этот чин, я порой тиранил своего лучшего друга — Фридля Айххольцера, который до моего возвышения стоял у алтаря и был, по существу, моим конкурентом. Следуя моим коварным подсказкам, он делал не то, что нужно, и на протяжении недель совершал грубую ошибку: начиная трезвонить пятью спаянными колокольчиками в тот момент, когда священник вкушал кровь Христову. Мы оба, священник и я, возмущенно качали головами. С тех пор мое первенство стало неоспоримым. Фридль Айххольцер и другие служки, которым временами дозволялось рядом с нами преклонять у алтаря колени, неукоснительно следовали моим указаниям. По субботам, когда почтальон разносил по домам газеты крестьянам, я обходил жилища односельчан, разомлевших в тепле кафельных печек, и вручал хозяевам «Церковный листок». И они чтили меня как посланника и представителя священника. Не было в деревне такого человека, который не выказывал бы мне уважения. В красном церковном облачении я бежал, борясь с метелью, вдоль всего распятия, и согревал на груди облатки, которые священник забыл дома, а Мария попросила доставить поскорее в ризницу. Я понимал, что у меня за пазухой самое святое, что только может быть на свете, — тело Господа нашего Иисуса Христа. У того распятия, что напротив школы, я остановился, выпростал правую руку, которой держал облатки, и совершил крестное знамение, коснувшись рукой лба, губ и груди. Один молодой священник, как рассказывал нам наш учитель на уроках закона Божия, по дороге в церковь хотел было перейти через мост неподалеку от Штокенбоя, но тут ему преградили путь двое разбойников. А он держал у сердца кожаную сумку с оловянной шкатулкой, в которой была спрятана просфора. Злодеи смертельно изранили священника ножами, но он так крепко прижимал шкатулку со святым даром к сердцу, что злодеи даже у мертвого не смогли отнять тело Христово, окропленное человеческой кровью. Героем другой истории был сам рассказчик: будучи молодым священником, он отправился в дальний путь, чтобы совершить обряд причащения над умирающей старухой. Вся ее семья в это время, видимо, работала в поле. Дверь дома была распахнута, в воздухе носились жирные мохнатые мухи. До сих пор помню подробное описание этой напасти. Он прошел на кухню, не встретив ни души, постучал в какую-то дверь — никакого отклика. Груда грязной посуды была сплошь облеплена мухами. Он поднялся по лестнице, вновь постучал в дверь и в еще одну, полуоткрытую, никто ему не ответил. Тогда он подошел к чердачной каморке, постучал в дверь, повернул ручку, переступил порог и в ужасе замер. На кровати лежала измученная болезнью, умирающая женщина, рот открыт, руки свисают на пол. Он подошел к женщине, она тяжело дышала, мухи копошились вокруг глаз, впивались ей в губы. Он пытался поговорить с этой крестьянской матушкой, но она не могла вымолвить ни слова. Священник помазал елеем и перекрестил лоб старухи, сложил на груди ее иссохшие руки, и вдруг, не успев даже оглядеться в комнате, заметил в углу поставленный на сундук гроб. «Вы только представьте себе, — сказал он, окинув внимательным взглядом всех сидящих в классе, — крестьяне купили своей матери гроб еще до того, как она умерла, а голодная, терзаемая мухами старуха лежала на смертном одре. Я дождался возвращения крестьян с поля и указал им на их прегрешение». В комнате священника висели самодельные иконы. На письменном столе стояло распятие из слоновой кости. Когда священник писал письма своим друзьям и епископу, когда составлял свидетельства о рождении или о смерти, он прикладывал к бумаге Христа из слоновой кости и удостоверял запись печатью в виде тернового венца. Он заказывал маленькие, размером с книжную закладку, копии своих бесчисленных собственноручно нарисованных икон и раздавал их прихожанам прямо в исповедальне на память о пасхальном причащении. Эти картинки люди хранили меж страниц молитвенников. Иногда их вкладывали в ладони покойника, прежде чем закрыть гроб. Мне не раз доводилось видеть, как образок работы священника ставили на могилу усопшего. Спустя какое-то время влажная земля разъедала нижний край бумажной иконки. Зимой в холодном, как склеп, помещении церкви мы с Фридлем Айххольцером спасались теплом, которое исходило от примуса для нагревания вина. Священник велел сделать нишу возле алтаря, там и был источник тепла. Я подносил к алтарю теплую кровь Христову. В храмовый праздник стекла дрожали от выстрелов из ракетницы нашего сельского пиротехника. В четыре утра дети вздрагивали во сне, те, что были разбужены, напрягались в ожидании следующего выстрела, будили братьев и сестер. Мы гурьбой валили в церковь, норовя просочиться между чисто выметенными ступнями распятого Христа. Священник в своей проповеди говорил, что ныне не просто церковный праздник, что мы празднуем освящение храма в знак преклонения перед ним. Но святой день оборачивался диким разгулом с попойками, хлопками ракетницы, танцульками и трактирным свинством; в этой вакханалии принимали участие все, кроме священника и Марии. Деньги за службу он выдавал нам с Фридлем обычно по субботам. А если забывал, мы подольше задерживались в ризнице, стирали пыль с распятия, возились в шкафу, поправляя одеяния, словом, мозолили ему глаза, пока он не поднимал полу своего белого облачения и не лез в карман брюк, в котором звенели монеты.