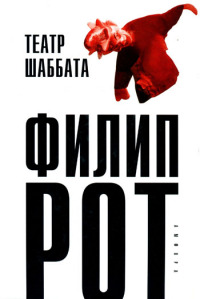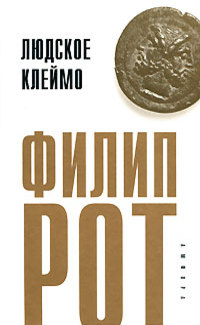Книга Мой муж – коммунист! - Филип Рот
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
История съежилась, оказалась личным делом каждого, Америка съежилась и оказалась тоже очень личной; что до меня, то я был зачарован не только Норманом Корвином, но самим временем. Ты вливаешься в историю, и история вливается в тебя. Ты вливаешься в Америку, и Америка в тебя. А заслужил ты это всего лишь тем, что живешь в Нью-Джерси, тебе двенадцать лет, на дворе 1945 год, и ты сидишь слушаешь радио. В то время массовая культура была еще накрепко связана с веком девятнадцатым, имела еще слишком малую опору в языке, но в такой опоре уже явно ощущалась необходимость, и от всего этого меня охватывало чувство восторженного нетерпения.
Ну вот, теперь уже не сглазишь, можно говорить:
Бездельники-большевики, гнилые демократы, увальни в очках
В конце концов куда как круче сделались громил в коричневых рубашках и умнее, кстати,
Поскольку без того, чтобы сечь пастора, расстреливать еврея, книгу жечь и запирать
В публичный дом девчонку или кровь выкачивать у беззащитного ребенка, запасая плазму,
Обычные мужчины собрались – не больно-то казисты, но свободны, —
Восстали от своих привычек и домов и, рано поутру
Проснувшись, мускулы размяли, а потом
Прочли в пособии (любители, куда там!),
Где у ружья приклад, у танка башня,
Как штык примкнуть, как заменить пустой рожок у автомата,
И вышли, черт возьми, под пули на поля войны,
И в океаны вышли под торпеды,
Чтоб опытных убийц, прожженных, ловких профи
Разбить, смешав с дерьмом.
И это сделали.
Ты хочешь подтверждения – читай
Последнее коммюнике с пометой «От
Верховного командования союзных войск».
А дальше просто: надо взять
И вырезать его из утренней газеты,
Да и вручить потомкам, чтоб хранили свято.
Когда «На победной ноте» появилась в виде книги, я немедленно купил ее (сделав первой моей собственной книгой в твердой обложке – до этого такие дорогие книги я только выписывал на абонемент) и за несколько недель выучил шестьдесят пять страниц схожей с верлибрами ритмизованной прозы, в которой текст прихотливо разбит на строки, чтобы как можно более смачно звучали те, в которых каждодневный уличный язык подвергался некоторому игривому насилию: «Вот это скачка босиком по углям! – их дела, треща по швам, в Днепропетровске синим пламенем горели». Иногда автор в одной строке нарочно сталкивал существительные, обозначающие понятия из очень разных рядов, – я полагал, что это для того, чтобы появился эффект неожиданности, усиленной еще и примесью иронии: «могучий воин положил свой самурайский меч к ногам приказчика из овощного в Балтиморе». Окончилась война, огромное напряжение спало, и этот момент дал замечательный толчок для всплеска такого изначально присущего ребенку чувства, как патриотизм (когда война началась, мне не было и девяти, а когда закончилась – двенадцать с половиной); одно лишь упоминание захолустных американских городов и штатов – в таком контексте! да по радио! – «…нью-гемпширский ночной промозглый воздух…», «…от пирамид Египта до глубинки Оклахомы…», «…причины скорби в Дании всё те же, что в Огайо…» – от одних только этих знакомых, еще недавно совсем не романтических названий я испытывал что-то вроде катарсиса, к чему, видимо, и стремился автор.
Ну, наконец-то всё, мы их сломили.
Работа кончена, и крыса с Вильгельмштрассе
Издохла и лежит рядом с помойкой.
Прими от нас поклон, нормальный малый,
Прими от нас поклон, простой солдат.
Кто, как не ты, тирана дней грядущих
К своим ногам поверг уже сегодня.
С этого панегирика пьеса начиналась. По радио ее читали тоном твердым и решительным, уже самим тембром голоса указуя, кому именно адресованы хвалы, причем диктор чем-то напоминал мне Железного Рина. Голос уверенный, не допускающий возражений, резкий, но с хрипотцой, намекающей на печаль и сострадание, и оптимистичный, как у школьного учителя физкультуры (преподающего заодно и английский); в общем, ни дать ни взять голос коллективного самосознания простых людей.
А вот как у Корвина выглядит кода – молитва, да и только, но этакая современно-приземленная, так что я, на тот момент уже законченный атеист, не воспринимал ее как нечто связанное с религией, нет, для меня она была земной и с церковью никак не связанной, но действовала сильнее, чем любая молитва, которую я когда-либо слышал и повторял перед занятиями в школе или читал в молитвеннике в синагоге, когда рядом с отцом выстаивал праздничную службу.
О, Всемогущий Боже траектории и взрыва…
О, Боже хлеба и покоя ранним утром…
О, Боже теплого пальто и потребительской корзины…
Отсыпь нам толику свобод вдобавок к прежним…
И братство наше укрепи, когда за стол переговоров сядем…
И малым сим воздай по чаяниям их и их надеждам, чтоб
Между опасных скал они проход нашли…
Десятки миллионов американских семей в тот день сидели у приемников и, как бы ни было произносимое сложно для восприятия в сравнении с тем, к чему они привыкли, слушали то, что ввергало меня – и, как я наивно полагал, их тоже – в поток преображений, которому я отдавался до самозабвения, какого лично я никогда прежде не испытывал под действием чего-либо, принесенного радиоволной. О, сила этой передачи! Ящик радиоприемника – и то был словно духом осенен! Став будто коллективною душой Простого Человека, приемник вдохновлял народ на благодарность, на обожание своих героев; слова обильно изливались как бы прямо из сердца Америки на весь ее необъятный простор, воздавая хвалу тому парадоксально высшему началу, которое Корвин настойчиво называл абсолютно нормальным, обычным американцем: «Обычные мужчины собрались – не больно-то казисты, но свободны».
Корвин осовременил для меня Тома Пейна, демократизировал героизм, сделав его свойственным не одной лишь неукротимо рыцарственной личности, но коллективу простых, к благой цели устремленных мужчин, собравшихся вместе. Праведность и народ стали едины. Величие и народ стали едины. Потрясающая мысль. И как только Корвину удалось – пускай лишь в своем воображении – воплотить ее?
* * *
После войны, впервые осознанно, Айра занялся классовой борьбой. Вообще-то он всю жизнь ею занимался, сидел в ней по уши, как он сам говорил мне, но при этом понятия не имел, что происходит. Живя в Чикаго, он работал за сорок пять долларов в неделю на фабрике грампластинок, которую Объединенный профсоюз электриков так ловко умудрился организовать, что никакое начальство не имело права взять туда на работу никого, кроме членов профсоюза. О'Дей между тем опять стал работать в бригаде такелажников на сталелитейном заводе в Индиана-Харборе. Время от времени О'Дей порывался бросить работу и свою досаду изливал дома, в вечерних разговорах с Айрой. «Мне бы шесть месяцев свободы, чтобы ничто не связывало руки, и в Индиана-Харборе реально появилась бы партийная ячейка. Тут множество хороших людей, но нужен парень, который мог бы все свое время тратить на оргработу. Вообще-то я не очень хороший организатор, это верно. Тут надо уметь работать рука об руку с теми, кто большевикам лишь сочувствует, а мне этих трусов все больше хочется по башке бить. Да, в общем-то, какая разница? У партии все равно средств слишком мало, чтобы позволить себе держать освобожденного работника. Каждый с трудом выцарапанный цент идет на поддержку руководства, на прессу и на дюжину других безотлагательных вещей. Я и так еле дотягиваю до получки, но я бы, конечно, сжал зубы, затянул потуже пояс и какое-то время продержался. Однако эти налоги, чертов автомобиль, пятое, десятое… Нет, Железный, не могу – все равно работу не бросить».