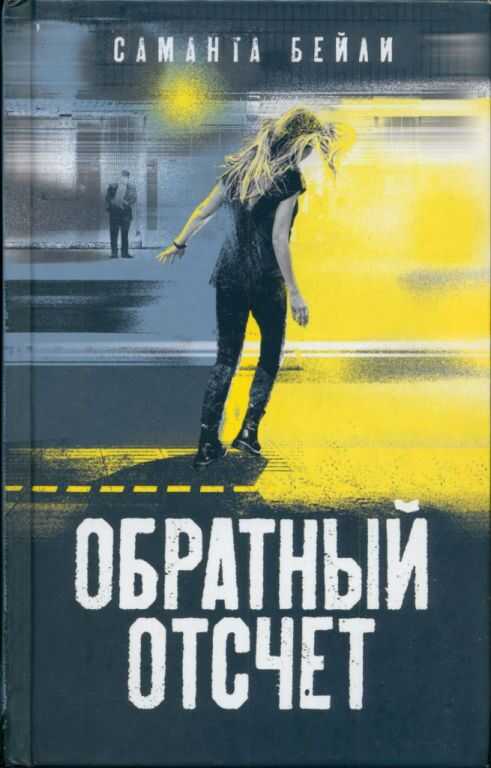Книга Детский поезд - Виола Ардоне
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Почему сразу возлюбленный? – снова вмешиваюсь я, чтобы не смущать Маддалену. – Он тоже коммунист, я его как раз перед отъездом в городе видел…
– И что? Хочешь сказать, если коммунист, то и влюбиться не может?
– Некогда ему! Тут южный вопрос надо решить, не время о любви думать…
– У любви множество лиц, и не только то, о котором вы думаете, – перебивает Маддалена. – Скажем, сидеть здесь с вами, несносными сорванцами, – это что, не любовь? А ваши мамы, посадившие вас в поезд и отправившие за тридевять земель, в Болонью, Римини, Модену… разве они вас не любят?
– Как так? Кто же отсылает прочь тех, кого любит?
– Знаешь, Амери, иногда тот, кто отпускает, любит тебя гораздо больше, чем тот, кто удерживает…
Этого я не понимаю, но переспрашивать не решаюсь. Маддалена говорит, что должна проверить, как там другие дети, и уходит, а мы с Томмазино и Мариуччей, чтобы скоротать время, садимся играть в «Камень, ножницы, бумага».
Но вот поезд наконец замедляет ход, потом и вовсе останавливается. Девушки велят нам посидеть спокойно и подождать, пока подойдёт наша очередь выходить, а на платформе – не разбегаться, не то заблудимся и отобьёмся от остальных, а какая же это солидарность, если каждый сам по себе?
На вокзале нас встречает оркестр под белым транспарантом. «Добро пожаловать, дети Юга», – читает нам одна из девушек. Значит, именно нас и ждут. Похоже на праздник Мадонны дель Арко[14], только одеты не в белое. И на колени с воплями «Мадонна!» не падают.
Похоже, все девушки из нашего поезда знают песню, которую играют музыканты, потому что через каждые две-три строчки выкрикивают: «Белла, чао, чао, чао!», а в конце вскидывают кулаки к серому, затянутому узкими длинными облаками небу. Мариучча и Томмазино думают, кулаки – это знак единства, но я им рассказываю про коммунистическое приветствие, которому научила меня Хабалда, и чем оно отличается от фашистского, которому научила Тюха. Сказать по правде, когда они, то есть Хабалда с Тюхой, встречались у нас в переулке, мне казалось, будто они спятили и решили в «Камень, ножницы, бумага» сыграть.
Я встаю в пару с Мариуччей, за нами Томмазино с парнишкой постарше, и мы идём сквозь толпу людей с трёхцветными флажками: одни нам только улыбаются, другие хлопают в ладоши, третьи машут рукой. Считают, наверное, что мы в лотерею выиграли и теперь приехали в Северную Италию с ними делиться, а не наоборот. Усатые мужчины в шляпах, собравшиеся под красным флагом с молотком и жёлтым полумесяцем, поют ещё одну незнакомую мне песню, время от времени выкрикивая: «С ин-тер-на-ци-о-на-а-а-а-алом…»
Потом начинают петь и женщины, жёны тех усатых в шляпах, что стоят под красным флагом. Но эту песню я уже слышал – её пела Маддалена, когда прогнала Тюху: про женщин, которые не боятся, хотя они женщины – или, не знаю, может, как раз поэтому. Голоса срываются, многие поют со слезами на глазах. Я не очень разбираю слова, но они, ясное дело, про мам и детей, потому что в какой-то момент и девушки из поезда, и коммунистки Северной Италии, глядя на нас, улыбаются, словно все мы – их дети.
Нас приводят в большой зал: по стенам флаги, трёхцветные и красные, а в центре – длиннющий стол, и на нём чего только нет: и сыр, и ветчина, и салями, и хлеб, и паста… Мы уже хотим наброситься и сразу всё съесть, но одна из девушек останавливает:
– Не спешите, ребята, тут на всех хватит. Каждый получит тарелку, столовые приборы, салфетку и стакан для воды. Голодать здесь никто не будет.
А Томмазино, подтолкнув меня локтем, шёпотом добавляет:
– Кроме тех коммунистов, что детей едят. Ну ничего, они и глазом моргнуть не успеют, как мы сами их сожрём!
Мы с Мариуччей и Томмазино садимся рядом. Потом склоняемся над тарелками – и наступает гробовая тишина: там у каждого по ломтику розовой ветчины, сплошь в жирных белых пятнах, и немного сыра – один кусок совсем раскисший, другой твёрдый, как камень, третий вообще пахнет немытыми ногами. Мы нерешительно поглядываем друг на друга, но есть никто не начинает, хотя по глазам видно, как все оголодали. К счастью, появляется Маддалена.
– Что такое? Аппетит пропал?
– Синьорина, так ведь эти, с Севера, нам испорченную еду подсунули! Вон, на ветчине пятна, а на сыре плесень, – бормочет Мариучча.
– Точно отравить хотят! – встревает тот противный белобрысый мальчишка без трёх передних зубов.
– При всём уважении, если мне в жизни только холеры и не хватало, почему бы мидий в порту не поесть? – поддакивает Томмазино.
Но Маддалена просто берёт ломтик ветчины с пятнами и отправляет в рот. Говорит, придётся нам привыкать к этим новым блюдам: к мортаделле, пармезану, горгонзоле…
Тогда я, собравшись с духом, пробую небольшой кусочек ветчины – той, что с пятнами. И Мариучча с Томмазино, поняв по моему лицу, что это штука вкусная, тоже пробуют – и больше от тарелок уже не отрываются. Мы сметаем всё подчистую, даже раскисший сыр и ломти с зелёной плесенью, а под конец и твёрдые кубики, настолько солёные, что язык сводит.
– А моцареллы тут не держат? – интересуется Томмазино.
– Нет, дружок, за моцареллой – это тебе в Мондрагоне, – усмехается Маддалена.
Тут девушка-коммунистка подкатывает тележку, всю уставленную чашками с какой-то белой пеной.
– Рикотта, рикотта! – вскрикивает Мариучча.
– Снег, снег! – передразнивает её Томмазино.
Я зачерпываю пену ложкой и кладу получившийся шарик в рот. Он безумно холодный, а на вкус – как молоко с сахаром.
– Сладкая рикотта! – настаивает Мариучча.
– А вот и нет, граттатела с молоком! – возражает Томмазино.
Мариучча потихоньку начинает есть, но под конец оставляет немного пены в чашке.
– Неужели мороженое не понравилось? – спрашивает Маддалена.
– Не очень… – шепчет Мариучча, но всем понятно, что это неправда.
– Ладно, давай тогда отдадим остатки Америго и Томмазино…
– Нет! – вопит Мариучча, и по её щекам катятся крупные слёзы. – Я… я на самом деле хотела немного братьям оставить… чтобы дать попробовать, как домой вернусь… Думала в карман платья спрятать…
– Да ведь мороженое нельзя спрятать в карман, оно растает!
– А если растает, какая же это солидарность?
– Держи, вот тебе для солидарности, – и Маддалена достаёт из сумки пригоршню конфет. – Их можешь оставить братьям.
Мариучча берет конфеты и осторожно, будто бриллианты, кладёт в карман. А потом доедает последнюю ложку мороженого.
11
Потом девушки-коммунистки, усадив нас в ряд на длинной скамье, ходят взад-вперёд с чёрными книжечками в руках: смотрят номера у