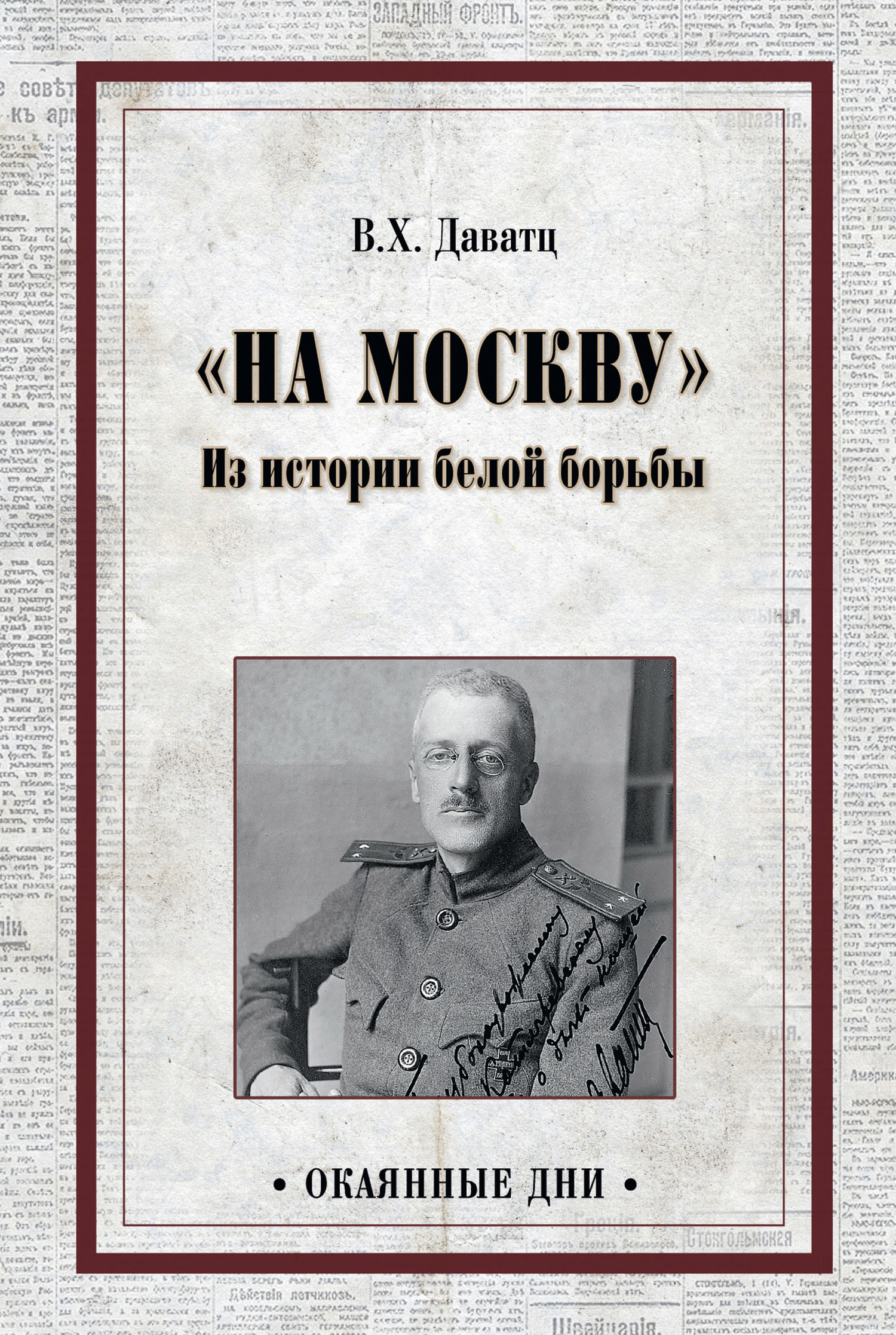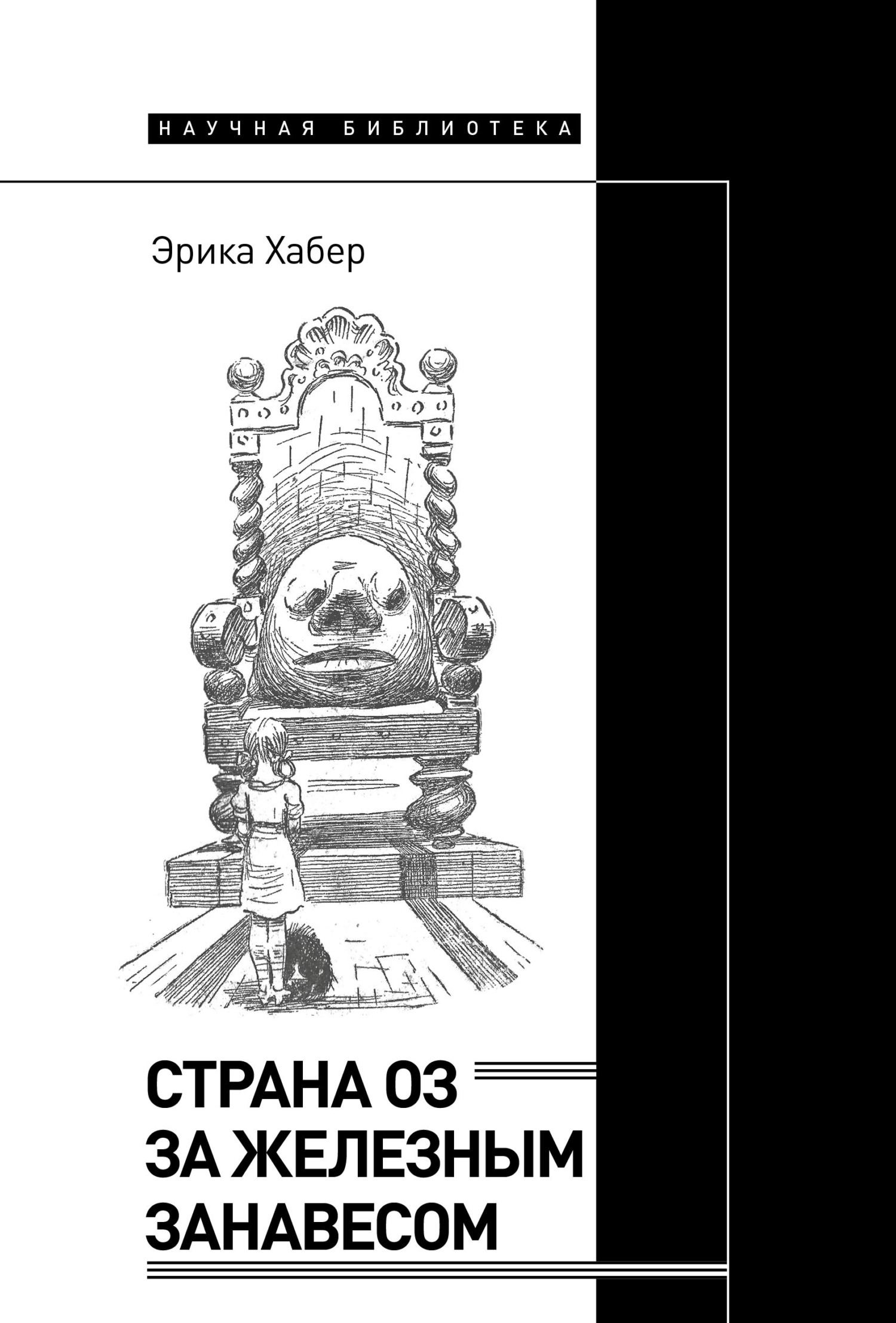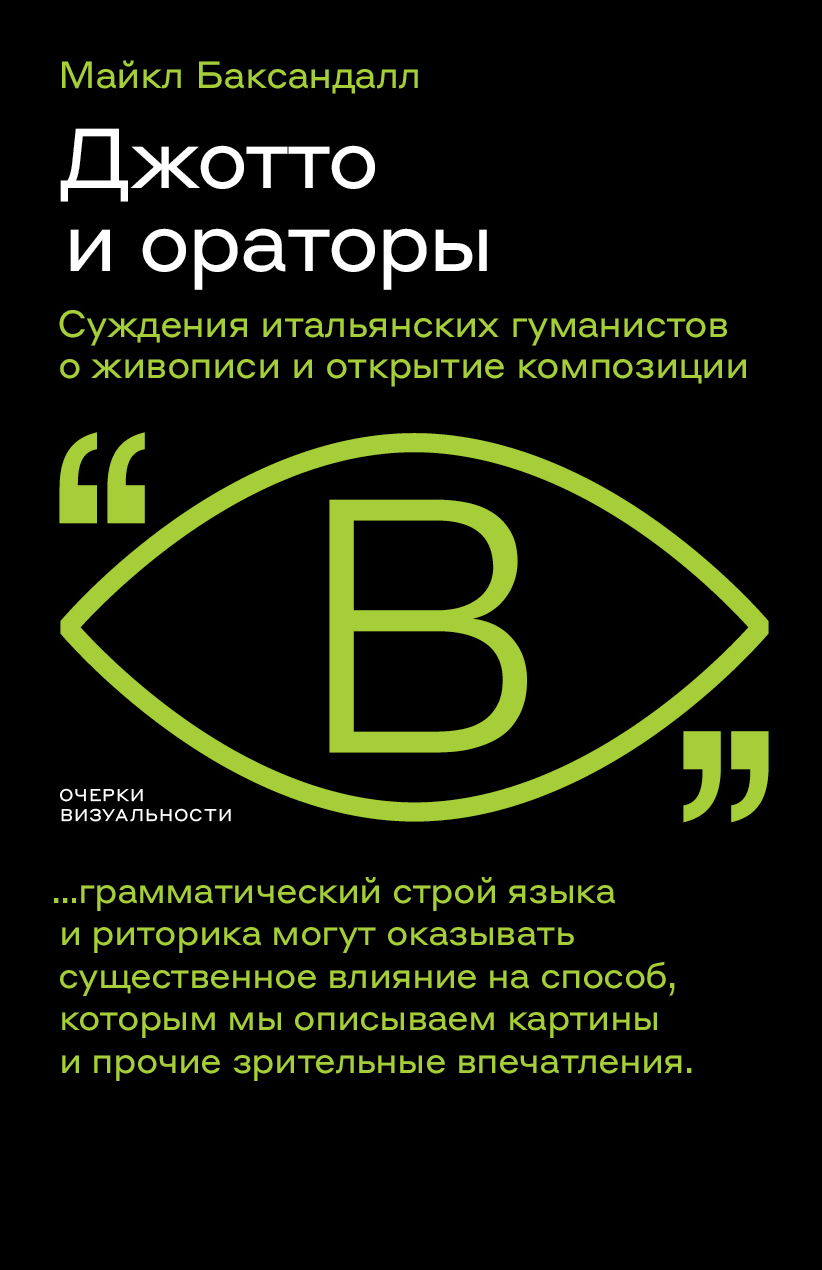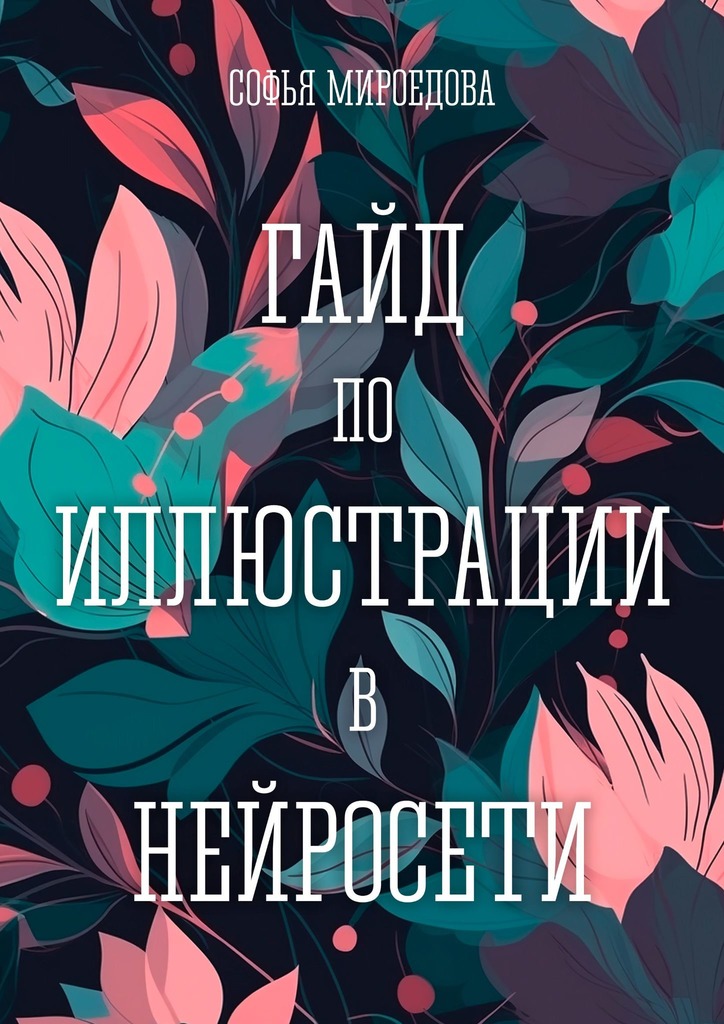Книга Пелевин и несвобода. Поэтика, политика, метафизика - Софья Хаги
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отец Татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего над вольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. Но таков был не только отец Татарского, – таким было все советское поколение пятидесятых и шестидесятых…104
Сейчас, когда мы уже знаем, что последовало дальше, очевидно, что попытка примирить коммунистические идеалы с либеральными западными ценностями 1960-х годов была обречена на провал. Советских шестидесятников с западными хиппи роднили инфантильный идеализм и уверенность, что бунт под лозунгом «Секс, наркотики, рок-н-ролл» представляет серьезную опасность для системы. Но это заблуждение, ведь, – как подчеркивает Пелевин, сближаясь с тезисами Маркузе и Жижека, – любое самовыражение (индивидуальный бунт против условностей) только укрепляет репрессивные механизмы общества, направляя энергию молодежи на личное псевдобунтарство. Серьезная коллективная борьба с системой не может ограничиваться игрой «детей цветов» под музыку Beatles и Боба Дилана в стенах родного университета, сколь бы увлекательной ни казалась такая игра.
В глазах поколения «П», поневоле преждевременно состарившегося и очерствевшего, и советские шестидесятники, и представители западных молодежных субкультур 1960-х годов играли в инфантильную оппозицию просто из-за переизбытка юношеской энергии, искавшей выхода по обе стороны железного занавеса. Детей шестидесятников – поколение «П» – нельзя назвать ни юными (если не по возрасту, то по мироощущению), ни наивными. Что, пожалуй, еще важнее, они не достигли зрелости (хотя и совокупляются с деньгами или их суррогатами). Они играют в другую игру – без названия.
К тому времени, когда поколение «П» повзрослело, левая альтернатива превратилась просто в еще один бренд в мире брендов. В романе угадывается насмешка не только над обществом потребления, но и над левой критикой этого общества, примером чему служит псевдонаучный трактат Че Гевары. Комизм ситуации усугубляется, когда дух Че сообщает Татарскому, что изучение телевидения запрещено во всех странах, кроме Бутана, где запрещено само телевидение. А поскольку «вымышленную» страну Бутан придумал один из медийщиков – коллег Татарского, критика Че опять замыкается сама на себя. Можно щеголять в футболке со стилизованным портретом Че Гевары или состряпать рекламный ролик, где человек швыряет в витрину кирпич с криком: «Под Кандагаром было круче!» Кирпич разбивает стекло, и результат налицо: нарушение порядка не только усиливает сплоченность общества, выпуская сдерживаемую агрессию (Жижек), но и обладает дополнительным преимуществом, способствуя росту продаж футболок и кроссовок Nike.
Непристойное трансцендентное
Дегуманизация нового общества завершена – человека больше нет. Если классические антиутопии задуманы как своего рода предостережения, а их действие помещено в будущее или в некое вымышленное пространство (ближе всего к настоящему находился Оруэлл – время действия его романа от момента публикации отделяют всего тридцать пять лет), у Пелевина сюжет разворачивается в 1990-е годы, то есть в недавнем прошлом. Элементы фантастики в романе не бросаются в глаза и скорее усиливают ощущение, что перед нами описание происходящего в реальности, а не того, что может случиться при определенном повороте событий. Лишь отдельные невероятные штрихи, такие как виртуальная политика, плавно вписываются в постперестроечные реалии, изображенные по-журналистски остро и подробно. «Generation „П“» – осуществившаяся антиутопия.
Важно отметить, что мистическое и религиозное в тексте не противостоят социальному (как в классических антиутопиях), а подкрепляют его. Эзотерическая (вавилонская) линия в «Generation „П“» с присущими ей библейскими мотивами алчности и разврата намеренно построена так, что сливается с земной антиутопией. В романе излагается новая версия мифа: древние вавилоняне отождествляли несметное богатство и власть с высшей мудростью. Чтобы заполучить их, надо добиться совокупления с золотым идолом Иштар, выиграв в «Великой Лотерее», то есть разгадав три загадки Иштар, ключ к которым кроется в словах песен, распевавшихся на вавилонском базаре. Все компоненты формулы успеха – золотой идол, Великая Лотерея, базарные песни – отсылают к одержимости деньгами, описываемой в мифе. Поднимаясь на вершину иерархии, Татарский выполняет все перечисленное. Его путь к власти – одновременно и мистическое восхождение на зиккурат Иштар. В финале Татарский становится верховным создателем виртуальной реальности и мужем золотой богини.
В «Generation „П“» realia и realiora, реальность видимая и реальность сокровенная не противопоставлены, а отражаются друг в друге. Монетарное на земле соответствует монетарному в небесах105. Когда Татарский задается вопросом, что держит такую конструкцию, он сталкивается с запретом даже размышлять на эту тему. Выйдя из себя, он вопрошает:
…Какая же гадина написала этот сценарий? И кто тот зритель, который жрет свою пиццу, глядя на этот экран? И самое главное, неужели все это происходит только для того, чтобы какая-то жирная надмирная тушка наварила себе что-то вроде денег на чем-то вроде рекламы?106
В этом фрагменте соединяются коммерческая, металитературная и метафизическая риторика. С точки зрения Татарского, ноуменальное – отвратительная «жирная надмирная тушка», диктующая ход человеческой жизни, тешащая себя зрелищем этого мира и получающая с него прибыль. И онтология, и авторство понимаются как торговля. Злой демиург и автор действуют по той же схеме, что и копирайтер. Новое общество лишает метафизику содержания, не отвергая ее как иллюзию, а перенося парадигму потребления на трансцендентное. Эзотерический пласт романа обнажает основания нарисованного Пелевиным социального и духовного тупика. «Generation „П“» сополагает феноменальное бытие с ноуменальным, но, в отличие от более привычной символистской парадигмы, ноуменальное извращено и низведено до уровня зеркала обыденности.
Антиутопия коммодифицированного общества, трактат Че Гевары и вавилонская мифология в романе совмещены. Видение древневавилонского божества Энкиду, явившееся Татарскому под воздействием наркотиков, повторяет образ орануса из трактата Че Гевары. Как и оранус, Энкиду держит золотые нити, на которые нанизаны люди (нить тянется через тело ото рта к анусу). Энкиду – рыболов, который должен насадить на золотую нить всех людей. То же божество, но уже в обличье библейского Ваала, правит Тофетом, или Геенной, – местом, где горят люди107. В земной реальности Тофет/Геенна – современные медиа, сжигающие людей в огне материальных желаний. Вдохновленный видениями, Татарский начинает путь наверх. «Сакральное» знание обеспечивает мирской успех. Миф не позволяет ему выйти за пределы земного, а наоборот, заточает его в финансовой одержимости этого общества. Если современные теоретики, имея склонность к метафорам, уместным скорее в творческой дипломной работе, называют метафизическое символическим капиталом, то Пелевин с откровенным сарказмом дает понять: деньги стали новой религией – в буквальном смысле – этой антиутопии108.
* * *
Пока Татарский еще продолжает искать подлинную реальность, он размышляет:
Сама по себе стена, на которой нарисована панорама несуществующего мира, не меняется. Но за очень большую сумму можно купить в качестве вида за окном намалеванное солнце, лазурную бухту и тихий вечер. ‹…› Тогда, может быть, и стена нарисована? Но кем и на чем?109
В духе платоновской аллегории пещеры Татарский рассматривает товары как систему ложных символов, маскирующих тюрьму, в которой находится человек. Разрисованная стена и вид из окна (улучшения, которые человек может приобрести) одинаково фальшивы. Озарение Татарского заключается в том, что потребительские мифологемы – симулякры второго порядка, скрывающие первичный симулякр – иллюзию самой стены.
Такая мысль могла бы вести к бегству от лживой реальности, но вместо этого пелевинский протагонист в финале романа управляет виртуальной реальностью в России и сам становится виртуальной реальностью – персонажем многочисленных рекламных роликов. Последний муж Иштар, безнадежно запутавшийся, бессмысленно меняет «Пепси» на «Кока-колу», хотя обе жидкости одинаково коричневые и вызывают одинаковые ассоциации с экскрементами и нацизмом. Он просит позаботиться о Ростроповиче, словно сардонически отдавая дань павшим идолам культуры, и уходит со страниц книги как персонаж пасторальной рекламы пива Tuborg, воспроизведенный в тридцати тиражируемых экземплярах.
«Generation „П“» не пугающее повествование о триумфе тоталитаризма – роман ярко иллюстрирует курьезную реальность