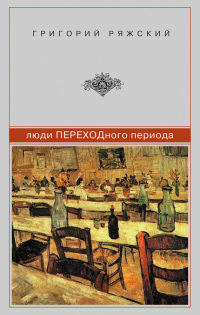Книга Страстотерпицы - Валентина Сидоренко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Ну, ведьма, – простонал Гуров, – вылезем, я тебе покажу! – Ползая вокруг, он отыскал впотьмах книгу.
Вылезли со склада, пригнувшись, прошмыгнули между постройками, пролезли в дыру в заборе и наконец вышли к болоту. Тихо и черно было на болоте, хотя серебряная дорожка луны искрилась по мягкой воде. Остро пахло сырой травою, водою, толем от рук и одежды.
Вовка отвел Марьку на озеро, чтобы отмыть этот навязчивый запах.
Вспоминая разговор двух женщин, Марька думала о тех слухах, которые ходили о матери по поселку, о молодой женщине, у которой так надрывно переломилась жизнь…
На берегу озера было светлее, чем на дороге. Вовка скинул рубашку, вошел в мягкую теплую воду, проплыл до камышей и вернулся назад. Закричали обеспокоенно утки и долго не умолкали. Марька, пока Вовка плескался в воде, сидела на берегу, открыв книгу. Женщины не было видно при слабом свете, только от желтых отблесков воды загорался и гас дымчатый свет ее шарфа.
– Смотри какая, – сказала она вылезшему из воды Вовке.
Вовка прошел мимо, не глянув даже, сопел, вытирая руки майкой.
– Раздевайся, – отрывисто сказал он. – Давай быстрее.
Вовка вымыл ее так же тщательно, как мылся сам, старательно обтер, принюхиваясь, не пахнет ли от девочки толем.
– Там такая тетенька красивая! – повторила Марька, показывая на книгу.
– Все вы одинаковые, – буркнул Вовка, напяливая на нее платье.
– И я такая же? – шепотом опять изумилась Марька.
– Ну а чем ты лучше?..
И пока Вовка копался, обуваясь и отряхиваясь, Марька прижимала к себе книгу и смотрела на небо. Оно изменилось, устоялось густой сплошною чернотой; ярко горели звезды; вода успокаивалась, сходилась пугающей подсвеченной глубиной, только от камышей, от суеты потревоженных уток шли к берегу мелкие бьющиеся круги. Слабая во тьме, дорога на болото быстро терялась из виду, словно нитка оттуда, из полного, свежего простора, из шорохов, теней, нежданных криков, чего-то хлопотливого и незнакомого…
Все внове сегодня открылось для Марьки, словно отблеском, слепящим и резким, от большого пожара впереди. И эта женщина – как тайна другого мира, и это болото, живущее страшным, скрытым от чужого глаза…
И знает ли про все это бабка или мать, и кто знает про все, все это?..
– Смотри, – испуганно зашептала Марька, указывая рукой.
Вовка обернулся и облегченно вздохнул.
– Не бойся, – сказал он, – это лошадь…
Лошадь подошла к воде и, мягко фыркая, стала пить.
– А звезды, это что? – спросила Марька.
– Это солнца. Их много…
Марька засмеялась оттого, что даже она знает, что такого быть не может, а Вовка говорит.
– Вот и неправда, солнце – когда днем…
Она прижала книгу к себе и еще раз счастливо вспомнила, что она такая же, как и чудесная женщина в этой книжке. А самое главное, она покажет картинку матери и бабушке и скажет им, что и они такие же. Ведь ни мама, ни бабушка просто не знают, какие они… женщины!.. Оттого и горе… А потом будет счастье… Вот они узнают, и будет счастье.
Ребята проходили мимо стогов сена, когда кто-то свистнул им. Подошел Костя, двинулись к огородам.
– Слушай, а тетя Рая… – Вовка помолчал. – Что, к ней еще ходит этот… Ну, оттуда…
– Че, в морду дать?..
– Да нет, я так…
– Пискни только кому. Это не наше дело. Она хорошая, только несчастная. Моя мать говорит, что она несчастная…
Вовка отвернулся и промолчал. Марька шла между ними и думала, что будет дальше жить с утра до вечера, с утра до вечера, и так долго, и это, наверно, никогда не кончится.
У огородов Вовка отдал Косте книгу.
– Я пошел, – сказал он. – Ох и попадет мне.
Дома Марьку с Костей встретила бабушка, спросила:
– Где это вы шлялись?
Костя ужинать не стал, сразу ушел на чердак.
Марька уткнулась в бабушкины рыхлые колени, почувствовала горячий, родной запах, счастливо вздохнула:
– Бабушка, ты долго живешь?
– Шибко долго, Хлопчиха… Иди к матери ластись. Она тебе подарочек сготовила…
Мать, гладко причесанная, в сером платье, стояла у печки, печально смотрела на Марьку.
– Вот, – сказала она, – в школу скоро пойдешь…
Блеснул металлический замок портфеля. Запахло кожей.
Марька сунула под подушку и портфель, и книгу. Уже засыпая, сквозь сладкую тяжелую дрему она все еще думала, что больше не будет одна, что завтра она хорошо рассмотрит книгу, что все будут любить ее. А она любит всех…
Последнее, что она услышала в этот день, – ватные бабушкины шаги и всегдашнее горестное бормотание: «Э-э-эх, жизнь моя никудышная. Ой, никудышная…»
1975
Последние, на редкость свежие и ясные дни сентября. В воздухе сладковато и дымно, и в то же время есть что-то в нем сквозное, легкое, отчего дышать радостно.
На маленьком вокзальчике, ровно озаренном закатным северным светом, пустынно. Электрички, которая ходит сюда два раза в день, уже нет, а поезда местного назначения ждать больше нечего. Еще молодой желтизны листья сухо перекатываются через серый асфальт перрона; с тихих розовых гольцов терпеливо плывет ясное зарево, предвещающее заморозки.
Тугой гудок цыкнул резко и неожиданно. Локомотив с лязгом отцепил от товарного состава пассажирский вагон и медленно покатил по черным путям к тупику.
– Эй, красный зажги! – закричал кондуктор, махая фонарем.
Вагон покачнулся и встал, и в открытые двери тамбура показалась белесая девушка в синей болоньевой куртке, надетой на пестрое короткое платье. Девушка выжидающе оглядела вокзальчик. Через пути к вагону шла женщина; вот она остановилась у колонки, набрала воды.
– Тепло у вас, – сказала ей девушка.
– Тепло, у нас осень всегда хорошая. – Наполнив ведро, женщина неторопливо поправила ситцевый в горошек платок, морщинисто прищурив глаза и вздохнула. – А лето вот непутевое было. Дожди через день да каждый день. Картошка вся помокла. У вас-то как с картошкой? Дорогая?
– Не знаю я, – улыбнулась девушка.
– За матерью, значит, живешь, – догадалась женщина и ухватила за дужку ведро. – Ну, в добрый путь.
Девушка грустно посмотрела ей вслед. Сорвавшийся с тополя лист ударил ей в лицо, отлетел и затих, вздрагивая у рельса.
В глубине тамбура, у котлового отделения, проводница сердито уложила в топку дрова, потом быстро подожгла бумагу и задумчиво посмотрела на огонь.
– Чего там? Нету? – спросила она.