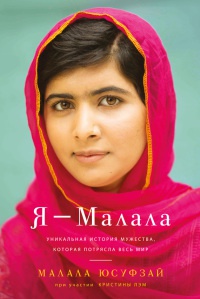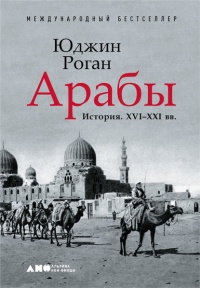Книга Дитрих Бонхеффер. Праведник мира против Третьего Рейха. Пастор, мученик, пророк, заговорщик - Эрик Метаксас
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В тот же день Бонхёффер писал Марии. Очевидно, оба они сочли испытание законченным. Они были влюблены, они хотели быть вместе, и если не могли встретиться, значит, должны были хотя бы обмениваться письмами.
...
Дорогая Мария,
Мое сердце все еще бьется громче обычного, и все во мне преобразилось – от радости и изумления, но также и от огорчения, что тебе пришлось так волноваться. Вечно я делаю подобные глупости! Будь ты сейчас здесь, мы бы поговорили обо всем и я бы рассказал тебе то, о чем я имел глупость рассказать твоей бабушке. Нет, у тебя нет ни малейших причин для беспокойства, и я ни о чем не тревожусь. Ты, конечно, знаешь даже из того немногого, что мы успели сказать друг другу, что опасность существует не только там [на фронте], но и здесь, дома – порой меньшая, порой большая. Какой мужчина нынче вправе отворачиваться от нее и ее избегать? И какая женщина нынче откажется разделить это бремя, хотя бы мужчина и хотел освободить ее от него? И как счастлив мужчина, если любимая им женщина поддерживает его своей отвагой, терпением, а главное – молитвой! Дорогая, милая моя Мария, я не предаюсь фантазиям – я к этому вовсе не склонен, – когда говорю, что твое духовное присутствие стало для меня существенной поддержкой в последние недели и месяцы. Но я искренне удручен тем, что причинил тебе огорчение. Прошу тебя, успокойся, вновь будь счастлива и уверена, думай обо мне так, как думала до сих пор и как я постоянно думаю о тебе567.
Две недели спустя Бонхёффер написал невесте о визите к ее бабушке в больницу. Рут чувствовала себя не слишком хорошо и все еще переживала из-за «недоразумений, случившихся зимой, с которыми мы, разумеется, давно покончили»568. Дитриху показалось, что письмо от внучки могло бы подбодрить старуху. Но Мария как раз собиралась сама навестить бабушку и сообщила об этом Дитриху в письме от 26 марта. У нее имелись и другие хорошие новости для жениха: ей удалось получить «временную отсрочку» от Reicharbeitsdienst , принудительной службы, обязательной для молодых незамужних женщин. Мария боялась этой участи и гораздо охотнее продолжала работать санитаркой, когда же годом позже угроза призыва вновь нависла над ней, отец Бонхёффера нанял ее в качестве секретарши. Ренату Шляйхер уберегли от такой же повинности, ускорив ее брак с Бетге.
Но десять дней спустя Мария вдруг почувствовала неладное. В дневнике 5 апреля она вновь обращается к Дитриху: «Случилось что-то плохое? – вопрошает она. – Я чувствую, случилось что-то очень страшное»569. Она еще не знала, что в этот самый день Дитриха арестовали, поскольку не общалась в это время с Бонхёффером и его родными.
18 апреля Мария приехала в Пэтциг на конфирмацию своего младшего брата Ханса-Вернера. К тому времени ее тревога дошла до точки кипения, и девушка твердо решила пренебречь требованием матери не видеться до истечения определенного срока с Дитрихом. Она предупредила об этом своего зятя Клауса фон Бисмарка. Вместе с Бисмарками они отправились в главную усадьбу и там поговорили с дядей Хансом-Юргеном фон Кляйстом. Дядя уже знал об аресте Бонхёффера и рассказал о нем молодым людям. Так впервые Мария услышала о несчастье.
Теперь уже поздно было ехать в Берлин повидать Дитриха. До конца своих дней Мария будет сожалеть о том, что не решилась ранее выйти из-под материнской власти. Сожалела о своем решении и фрау фон Ведемайер, винила себя, и дочь постаралась ее простить.
Гестаповцы издавна собирали компромат на своих соперников – сотрудников абвера. Их заветной мечтой было накинуть удавку на эту непокорную организацию, но Канарис был хитер, Остер и Донаньи умели соблюдать осторожность, и проникнуть в их секретные дела ищейкам никак не удавалось. И все-таки гестаповцы чуяли, что в абвере затеваются какие-то интриги, возможно даже злоумышляют против рейха, так что с присущей им тщательностью гестаповцы продолжали копать, пока не собрали достаточно улик для ареста. Тогда они нанесли удар.
В один день с Бонхёффером были арестованы Донаньи и Йозеф Мюллер, их доставили в тюрьму вермахта на Лертер-штрассе, предназначенную для высших офицеров. Сестру Бонхёффера Кристину и жену Йозефа Мюллера поместили в женскую тюрьму в Шарлоттенбурге. Бонхёффера отделили от друзей и отправили в военную тюрьму Тегель.
Спустя несколько месяцев Бонхёффер вспоминал, как прошли первые дни в заключении.
...
Были исполнены формальности приема-передачи арестанта. На первую ночь мне отвели камеру предварительного заключения. Покрывавшие койку одеяла так воняли, что даже в холод невозможно было ими пользоваться. На следующее утро мне в камеру бросили кусок хлеба – пришлось подбирать его с пола. Кофе на четверть состоял из гущи. В камеру впервые донеслись крики надзирателей, бранивших доставленных для допроса узников – с тех пор я слышал их каждый день с утра до вечера. Когда меня вывели вместе с другими новичками, тюремщик приветствовал нас как «подонков» и т. д. Нам всем задавали вопрос о причинах ареста, когда же я ответил, что понятия об этом не имею, надзиратель с презрительной улыбкой возразил: «Скоро узнаете». Однако прошло полгода, прежде чем я увидел ордер на свой арест.
Пока меня водили по различным инстанциям, некоторые унтер-офицеры, узнав о моей профессии, просили разрешения переговорить со мной… Меня отвели в изолированную камеру на верхнем этаже и на двери повесили табличку, запрещавшую любые формы общения. Мне сказали, что вплоть до дальнейшего уведомления прекращается переписка, я лишен получасовой прогулки на свежем воздухе, на которую имел право согласно тюремной инструкции. Я не получал ни газет, ни курева. Через двое суток мне вернули Библию, предварительно пролистав ее и убедившись, что я не припрятал в толстом томе напильник, бритвенные лезвия и так далее. Затем на протяжении двенадцати дней дверь открывалась лишь затем, чтобы впустить еду и выпустить парашу, – все это без единого слова. Никто не сообщал мне причины ареста или его предположительную длительность. Из некоторых реплик я заключил – и потом это подтвердилось, – что меня разместили в отделении для наиболее «серьезных случаев»: осужденных в этом отделении держали в оковах570.
Первые двенадцать дней с арестантом обращались как с уголовным преступником. В соседних камерах находились люди, уже приговоренные к смерти, один из них рыдал всю ночь напролет, и Бонхёффер, естественно, не мог заснуть. На стене он прочел ироническую надпись, оставленную прежним обитателем: «Через сто лет и это пройдет». Но пройдя этот мрачнейший надир, обстоятельства в следующие недели и месяцы стали понемногу улучшаться. Полтора года в Тегеле оказались отнюдь не такими беспросветными, как эти первые дни571.
Лишь в одном они совпали: и в первые дни, и во все последующие, до самого конца, Бонхёффер соблюдал раз навсегда установленное правило ежедневной молитвы и медитации, как практиковал их уже более десяти лет. Каждое утро он не менее получаса медитировал над стихом из Писания, читал заступнические молитвы за родных и друзей, за братьев по Исповеднической церкви на фронте или в концентрационных лагерях. С тех пор, как ему вернули Библию, он каждый день читал ее по несколько часов. К ноябрю он в третий раз принялся за Ветхий Завет, прочитав его уже дважды от корки до корки. Он черпал силу в чтении Псалмов, как прежде в Цингсте, Финкенвальде, Шлаве, Зигурдсхофе и так далее. Как-то раз он сказал Бетге, собиравшемуся в дальнюю поездку, что ежедневную практику особенно важно соблюдать, когда ты не дома, так сохраняется чувство принадлежности, непрерывности и ясности цели. И теперь, насильственно брошенный в обстановку, разительно отличавшуюся от родительского дома, он сам следовал этой дисциплине.