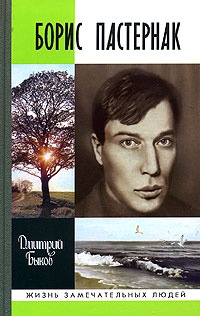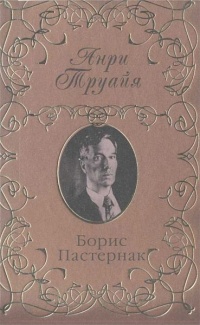Книга Пастернак в жизни - Анна Сергеева-Клятис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Это – событие!
Потом мы почему-то заговорили о музыке, долго гуляли, ни медленно, ни быстро, а когда расставались, упала звезда, и он быстро спросил меня:
– Загадали желание?
– Нет, не успел.
– А я успел, – с торжеством сказал Борис Леонидович. – А я успел! Она же долго падала, как же вы не успели?
О нем рассказывали, что однажды, когда он сажал картошку в саду – почти весь его сад был отведен под картофельное поле, – мимо проходил какой-то человек, и Борис Леонидович громко спросил его:
– Вы ко мне?
– Нет.
– Это хорошо, что вы не ко мне. Это очень, очень хорошо.
А когда незнакомец был уже довольно далеко, Пастернак выглянул из калитки и крикнул ему вслед:
– Как ваша фамилия?
В нем было то, что можно назвать «странностью непосредственности».
(Каверин В.А. Эпилог. С. 369–370)
* * *
Мы кончили сеанс[357], и он попросил:
– Зоя Афанасьевна, пообедайте со мной сегодня.
– Спасибо, – протянула я, соображая, успею ли в Москву.
– Спасибо да или спасибо нет? – улыбнулся он.
– Спасибо да.
Он весело закричал на кухню, отдавая распоряжение Татьяне Матвеевне. Он пригласил ее сесть вместе с нами, но она постеснялась.
– Вы коньяк пьете?
– Насколько я понимаю, нет.
Пока я ходила мыть руки, он вынул бутылку из холодильника и налил мне маленькую рюмку.
Мы сели за покрытый клеенкой стол друг против друга. Он велел мне намазать хлеб кабачковой икрой, налил из кастрюли овощного супу, бухнул туда две столовых ложки сметаны, собственными перстами насыпал зелени в тарелку и, передавая ее, доверительным шепотом сообщил:
– Это все надо съесть.
Второе он положил мне и себе в глубокие тарелки, освободившиеся от супа. Все было очень просто, посуда дешевая и некрасивая, но обед получился продуманный и вкусный. Борис Леонидович был по-домашнему заботлив и приветлив, разговорчив, говорил всякие приятные вещи, следил, чтобы я ела.
(Запись от 26 августа 1958 г. // Масленикова З.А. Борис Пастернак: Встречи. С. 62)
* * *
Валерия Дмитриевна Пришвина любезно одолжила мне три тысячи (3000) руб. Прошу моих близких, в том случае, если по каким-либо причинам я не смогу этого сделать сам, вернуть ей занятые мною деньги до конца 1959 года.
Б. Пастернак
(Расписка Б.Л. Пастернака В.Д. Пришвиной в получении денег от 27 декабря 1958 г.)
* * *
Я понимаю, я взрослый, что я ничего не могу требовать, что у меня нет прав, что против движения бровей верховной власти я козявка, которую раздавить, и никто не пикнет, но ведь это случится не так просто, перед этим где-нибудь об [этом] пожалеют. Я опять-таки понимаю, что если я на свободе, и меня не выгнали с дачи, это безмерно много, но зачем в придачу к этим сведениям, соответствующим истине, два ведомства, министерство культуры и министерство иностранных дел дают заверения, что я получаю и впредь буду получать заказы и платные работы, что со мной будут заключать договора и по ним расплачиваться, между тем, как по этой части установилась царственная неясность, дожидающаяся выяснения от тех же верховных бровей, чего никогда не будет.
Вы мне напомните, что дело примирения с Союзом Вы выделили и, как условие существования, возложили на меня. О, зачем же я должен это помнить, зачем должен я быть воплощением благородства и верности честному слову среди сплошной двойственности и притворства? Я тоже забыл это. И мне казалось и продолжает казаться, что для восстановления меня в Союзе, достаточно последних слов во втором моем письме. Я вообще, по глупости, ожидал знаков широты и великодушия в ответ на эти письма[358]. Действительно страшный и жестокий Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону. Государь и великие князья выражали письмами благодарность моему отцу по разным негосударственным поводам. Но, разумеется, куда же им всем против нынешней возвышенности и блеска.
(Б.Л. Пастернак – Д.А. Поликарпову[359], 16 января 1959 г.)
* * *
Он рассказывал о себе, говорил, что его гнетет неопределенность положения.
– Лучше бы самое страшное, но поскорей. А то после моих писем ничего не известно. Известно только, что меня исключили из Союза.
– А как ваши материальные дела?
– Мне ничего не платят.
<…>
Ничего не изменилось, ничего не стало яснее. Деньги мне по-прежнему не платят. Я переводил Словацкого, вы знаете.
– Заплатили за перевод?
– Нет.
– Но ведь у вас договор.
– Они не отказывают, но и не платят. У Зинаиды Николаевны есть сбережения, мы их уже тронули.
(Записи от 1 января и 11 февраля 1959 г. // Масленикова З.А. Борис Пастернак: Встречи. С. 148, 152)
* * *
Мы приехали к папе 1 января <…>. В его словах сквозило мучительное чувство неуверенности и неустойчивости его положения, выбитость из работы. Рассыпан набор «Марии Стюарт» Шиллера в издательстве «Искусство», из юбилейного многотомного собрания Шекспира выкинули все его переводы и «Генриха IV» заказали переводить кому-то заново. Упоминание его имени в чужих статьях ведет к их запрету, в театрах сняты спектакли с его переводами.
(Пастернак Е.Б [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 541)
* * *
В дни потрясений, когда я обращался к Вам за защитой, я понимал, что должен чем-то поплатиться, что в возмездие за совершившееся я должен понести какой-то ощутимый, заслуженный ущерб. Я мысленно расстался со своей самостоятельной деятельностью, я примирился с сознанием, что ничего из написанного мною самим никогда больше не будет переиздано и останется неизвестным молодежи. Это для писателя большая жертва. Я пошел на нее.
Но благодаря знанию языков я не только писатель, но еще и переводчик. Я не думал, что эта полуремесленная деятельность, ничего общего не имеющая с кругом личных воззрений и служащая мне средством заработка, будет мне закрыта. Надо попросту желать мне зла, чтобы лишать меня и этой безобидной, безвредной работы.