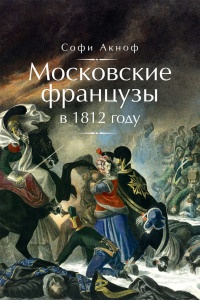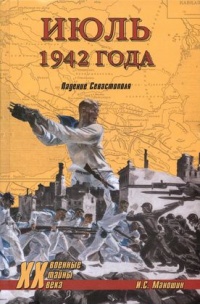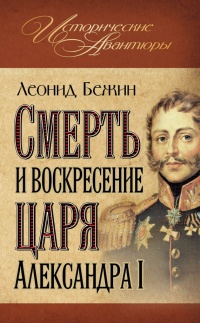Книга Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В эти тревожные дни заболела Кэди — она стала скучной, перестала есть, и там, где они сидела, оставался небольшой след крови. Это, по-видимому, был рак, которым часто болеют собаки этой породы. Спала она в ногах моей постели. Среди ночи я услышала, как Кэдинька спрыгнула, чтобы попить, но, вероятно, не имела силы подняться и легла рядом с кроватью на коврике. Утром я увидела, что она лежит тихо, положив голову на вытянутые лапы, и не сразу поняла, что она мертва. И Борис, и я были в отчаянии — но потом поняли, насколько ее смерть была своевременна. Что бы я стала с ней делать во время катастрофы 1935 года!
Похоронили мы Кэди на берегу маленького пруда на Охте. При этом нам помогал вернувшийся из очередной ссылки и гостивший у сестры Дмитрий Гудович, дав лишний раз убедиться в его сердечности. Он искренне мне сочувствовал и говорил, что сам с большой грустью хоронил любимых собак в парке Введенского, где протекали его детские годы.
Приезд beau-frere'a заставил Сергея Львова сначала насторожиться, а потом мобилизовать свои, говоря мягко, «дипломатические» способности. Как только Дмитрий Гудович упомянул, что в Ленинград вскоре должна прибыть какая-то молодая особа, бывшая с ним в ссылке, Сергей усмотрел возможность мезальянса и решил противодействовать. Первый его шаг заключался в том, что, когда это особа появилась на Охте, ей сказали, что Дмитрий уехал в Москву. Во второй ее приход Сергей разыграл роль Жермона из «Травиаты». Не пригласив ее зайти в дом, он среди двора стал взывать к ее благородным чувствам, умоляя не губить жизнь Дмитрия неравным браком, выражал уверенность, что последний ее не любит, а если и любит, то это ненадолго. Проповедь, по-видимому, упала на благодарную почву, потому что посетительница заплакала и ушла. А Сергей, рассказывая на Мойке, как ему удалось отвести от семьи опасность мезальянса, все же добавил: «Вы знаете, мне даже ее стало немного жаль!» (Само собой разумеется, что Дмитрий Гудович оставался в полном неведении об этих демаршах.)
Поскольку в отношении меня тактика Жермона явно не подходила, тут Сергей продолжал вести линию Яго и упорно старался убедить брата Владимира в «ненадежности» моего к нему чувства. По присущей ему деликатности, а может быть и скрытности, Владимир Сергеевич ничего не говорил о коварных наветах братьев. Только раз он полушутливо воскликнул: «Ах, Таточка! Ты просто сбиваешь людей с толку — не знаешь, что о тебе и думать. Для обыкновенной женщины ты слишком добра, а для святой ты слишком женщина, и вообще в святые не годишься». Я в том же тоне возразила, что святости можно достигнуть не только путем аскетизма, но и путем мученичества, следовательно, для меня еще не все потеряно.
Пока на берегах Невы разыгрывалась эта драма «коварства и любви», время шло, истекли три зимы папиной ссылки на Енисее и еще одна, доставшаяся ему дополнительно из-за нерасторопности Красноярского ОГПУ. Летом 1933 года, по открытии навигации, он смог, имея документ с ограничением «-6», наконец выехать из села Ворогова, расположенного между двумя рукавами Енисея. Решили, что он поселится в городе Владимире, и его сестра Елизавета Александровна, у которой были там знакомства, встретила его и устроила на квартиру.
Переезд и обоснование на новом месте, насколько мне помнится, длились довольно долго, потому что мой первый приезд во Владимир состоялся в начале зимы. Город был покрыт свежевыпавшим снегом, и папа встретил меня на вокзале одетым в коротенький, подпоясанный ремнем полушубок. Я никогда не видела отца в такой одежде, но осталась вполне довольна его видом. Он похудел, его прекрасные глубоко сидящие глаза стали как будто еще глубже, но он был бодр и абсолютно ничего не утратил из своей сущности — душевной, умственной и физической, а это, говоря современным жаргоном, «надо было суметь».
Благодаря переписке с друзьями, присылавшими интересующие его журналы и издания, отец все время был в курсе происходящего не только на белом свете, но и в научном мире. На обратном пути, в Енисейске, папа видел Александра Игнатьевича Андреева, отбывавшего там ссылку и работавшего заведующим местным музеем.
Стараясь проникнуть во все подробности туруханской жизни, я выяснила, что отец питался исключительно молоком и хлебом. Подобный режим, как самый простой и необременительный, он пытался продолжать и во Владимире, однако какой-то благоразумный врач посоветовал не нагружать сердца большим количеством жидкости, и отец перешел с молочного на обычное питание.
В 1932 году Владимир стал средоточием большого количества лиц, имевших «-6». Калуга вскоре после нашего отъезда в Ленинград и в связи с каким-то новым административным делением перестала быть разрешенным городом, и многим моим знакомым, в том числе Сабуровым и Коте Штеру, пришлось ее покинуть. Сабуровых я встретила во Владимире, а для Коти переезд в этот город оказался роковым. Он погиб в 1931 году во время какого-то непонятного и оставшегося необъяснимым процесса. Нате пришлось лишь post factum приехать за его вещами и порадоваться, что их матери уже нет в живых.
Память о расстреле группы ничем не связанных между собою людей еще была жива среди владимирцев и разговоры об этом событии наложили грустный отпечаток на мое первое пребывание у отца, прошедшее в нескончаемых беседах: днем во время прогулок по городу и вечером при свете керосиновой лампы в небольшом и довольно убогом домике за рекой Лыбедью.
Ко времени моего второго приезда следующей весной у отца уже появились знакомые, и мы с ним вели светский образ жизни, принимая приглашения то туда то сюда. Наиболее дружественные отношения у отца сложились с Ровинскими, окружавшими его трогательным вниманием. Константин Ипполитович Ровинский, племянник известного собирателя русских народных картинок и орнаментов, был и сам по себе человеком замечательным. Прослужив долгие годы на государственной службе в прибалтийских краях, он во время революции пошел в священники и, будучи настоятелем одной из московских церквей, имел очень большое число почитателей и приверженцев. (Об этом я слышала еще в 20-х годах.)
Во время моего знакомства с ним во Владимире Константин Ипполитович был живым, приветливым человеком лет шестидесяти, небольшого роста, с добрым лицом русского склада. Жил он на правах гражданина, имеющего «-6», ходил в штатской одежде и лишь изредка служил обедню в одной из владимирских церквей. Его жена, Юлия Павловна, была дамой с несколько капризным характером, но это не отражалось на ее отношении к моему отцу, которое всегда было более чем любезным. Потерявшие и сына, и дочь, Ровинские обратились ко мне с просьбой разыскать их внучку, находившуюся, по их предположениям, в Ленинграде. Мне удалось через адресный стол найти указанную девицу и направить ее во Владимир. К сожалению, эта встреча старикам особой радости как будто не принесла.
Несколькими годами позднее отец снова встретился с уже овдовевшим Ровинским в Тарусе, где они вместе переносили тягости военного времени. Почувствовав приближение смерти, Константин Ипполитович передал отцу разрозненные тетради дневников и воспоминаний. Отец похоронил своего приятеля на берегах Оки, а накануне своей смерти, будучи в полусознательном состоянии, вдруг совершенно твердо сказал мне: «Танюша, на верхней полке лежат тетради Ровинского — если будет время, приведи их в порядок».