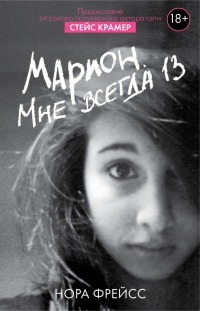Книга Я исповедуюсь - Жауме Кабре
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
После того как с помощью нескольких никуда не приписанных офицеров была подготовлена эвакуация лагеря, доктор Будден впервые за много месяцев не слишком хорошо спал. По вине одного waarom. И тонких, постепенно синевших губ. И обершарфюрер Бараббас, улыбаясь, делал ему инъекцию прямо через форму и улыбался почерневшими губами, окрашенными смертью, которая все не приходила, потому что это был только сон.
Ранним утром, прежде чем об этом догадался оберлагерфюрер Рудольф Хёсс, около двадцати офицеров и унтер-офицеров, среди которых были Будден и Бараббас, стараясь не шуметь, покинули лагерь и направились куда-нибудь как можно дальше от Аушвица.
И Бараббас, и доктор Будден весьма в этом преуспели: воспользовавшись суматохой, они сумели настолько дистанцироваться от своих дел и заодно от Красной армии, что смогли убедить встреченных по пути британцев в том, что они простые солдаты, бежавшие с Украинского фронта и мечтающие, чтобы война наконец закончилась и можно было вернуться домой, к жене и детям, если те еще живы. Доктор Будден превратился в Тильберта Хенша – так точно, капитан, из Штутгарта, – и у него не было никаких документов, которые могли бы это подтвердить, потому что капитуляция, вы понимаете. Я хочу вернуться домой, капитан.
– Где вы живете, доктор Конрад Будден? – спросил ведший допрос офицер, когда тот закончил свой рапорт.
Доктор Будден застыл с раскрытым ртом. Он сумел вымолвить только: что? – и посмотрел на него с удивлением.
– Где вы живете? – повторил лейтенант-британец по-немецки с жутким акцентом.
– Как вы сказали? Как вы меня назвали?
– Доктор Будден.
– Но…
– Вы никогда не были на фронте, доктор Будден. Тем более на Восточном.
– Почему вы называете меня доктором?
Британский офицер открыл лежавшую перед ним на столе папку. Армейская документация. Поганая привычка все архивировать и контролировать. Он – несколько моложе, но точно он – с таким взглядом, будто хочет пронзить кого-то насквозь. Герр доктор Конрад Будден, хирург, выпуск 1938 года. Ах да, и профессиональный уровень игры на фортепиано. Вот это да, доктор.
– Это ошибка.
– Да, доктор. Большая ошибка.
Только на третий год тюремного заключения из пяти, к которым его приговорили, поскольку каким-то чудом не вскрылась его связь с Аушвицем, доктор Будден начал плакать. Он был одним из немногих заключенных, кого до самого этого времени никто не посещал, потому что его родители погибли во время бомбардировки Штутгарта, а от извещения более или менее дальних родственников он отказался сам. Особенно родственников из Бебенхаузена. Ему не были нужны посещения. Он проводил день, глядя в стену, особенно с тех пор, как стал страдать бессонницей и по нескольку ночей подряд не смыкал глаз. Оставляя по себе ощущения глотка кислого молока, на него вдруг наплывали лица всех и каждого пациента, которые прошли через его руки, пока он работал под началом доктора Фойгта в кабинете медицинских исследований в Аушвице. И он решил для себя, что должен вспомнить как можно больше лиц, всхлипов, слез и криков ужаса, и часами неподвижно сидел за голым столом.
– Что?
– Ваша кузина Герта Ландау хочет посетить вас.
– Я сказал, что не хочу никого видеть.
– Она уселась у ворот тюрьмы и объявила голодовку. Пока вы ее не примете.
– Я не хочу никого видеть.
– На этот раз вы обязаны принять посетительницу. Нам не нужны скандалы на улице. Ее имя уже стало появляться в газетах.
– Вы не можете меня к этому принудить.
– Можем. Так, ребята, берите его под руки и покончим раз и навсегда со спектаклем, который устроила эта ненормальная.
Они привели доктора Буддена в зал свиданий. Его усадили напротив трех серьезных и торжественных солдат-австралийцев. Доктору пришлось провести около пяти бесконечных минут в ожидании – и наконец дверь открылась и в комнату ввели постаревшую Герту. Она с трудом подошла к нему. Будден опустил глаза. Женщина встала прямо напротив: их разделял только узкий стол. Она не села. Она только сказала: это тебе от Лотара и от меня. Тогда Будден взглянул на нее, и в этот момент Герта Ландау, наклонившись, плюнула ему в лицо. Ничего больше не сказав, она развернулась и вышла – чуть бодрее, как если бы стряхнула с плеч несколько лет. Доктор Будден не сделал ни единого движения, чтобы утереться. Какое-то время он сидел, глядя в пустоту, пока не услышал, как резкий голос приказывает: уведите его, – а ему послышалось: унесите эту падаль. И снова один, в камере, и снова лица пациентов, как глоток кислого молока. Начиная с тех тринадцати, на которых испробовали внезапную декомпрессию, продолжая теми многими, кто умер от привитых им болезней, и заканчивая группой детей, на которых был испробован возможный положительный эффект мази Бауэра. Без сомнения, чаще других он видел лицо фламандской девочки, которая говорила waarom, не понимая, зачем столько боли. И тогда у него появилась привычка – как если бы это было какое-то ритуальное действие – садиться за голый стол, расправлять грязную тряпку с неровным обтрепавшимся краем, на которой была еле видна бело-голубая клетка, и смотреть на нее не моргая, сколько достанет сил. И он чувствовал внутри такую пустоту, что был не способен плакать.
После нескольких месяцев ежедневного – утром и вечером – повторения одних и тех же действий, приблизительно на третий год заключения, его сознание постепенно стало более проницаемым: кроме всхлипов, визга, панических криков и плача, он начал вспоминать запах каждого лица. И наступил момент, когда ночью он уже не мог спать, – как те пятеро латышей, которых лишали сна на протяжении двадцати двух дней, пока те не умерли от утомления, не в силах больше смотреть на свет, с вылезшими из орбит глазами. И однажды ночью из его глаз полились слезы. С тех самых пор, когда ему было шестнадцать и Зигрид адресовала ему полный презрения взгляд в ответ на предложение встречаться, Конрад Будден не плакал. Слезы катились медленно, словно загустевшие, а может быть, нерешительные – после того, как не показывались столько лет. Прошел час, а слезы продолжали медленно катиться. И когда на улице розовые пальцы зари стали окрашивать темное небо, он разразился бесконечными рыданиями, а душа его вопрошала: waarom – как это может быть, warum, как это мне не приходило в голову плакать, видя такие грустные глаза, warum, mein Gott[326].
– Произведения искусства бесконечно одиноки, говорил Рильке.
Все тридцать семь студентов посмотрели на него молча. Адриа Ардевол встал, спустился со своего возвышения и поднялся на несколько ступеней амфитеатра, где сидели студенты.
– Никто не хочет высказаться? – спросил он.
Нет, никто не хочет высказаться. Мои студенты никогда не хотят высказаться, когда я бросаю им что-нибудь вроде того, что произведения искусства бесконечно одиноки. А если сказать им, что произведение искусства – это загадка, которую нельзя постичь разумом?