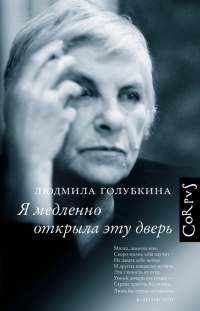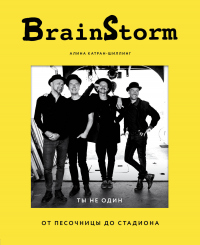Книга Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе - Виктор Давыдов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На прогулке Егор Егорыч шагал мелкими шажками — он был низок ростом, но энергичен и всегда бодр. Каждое утро его можно было застать в туалете полуголым, с полотенцем на пояснице — Егорыч обливался ледяной водой, а меня знобило только от одного этого зрелища. Однако Егорыч перенес в СПБ туберкулез и понимал цену здоровья.
Курил он три-четыре сигареты в день исключительно для удовольствия, поэтому на свои продукты я покупал у санитаров ему «Приму», рискуя, как выяснилось, собственной задницей. Но это было святое.
Каждую посылку я делил пополам с Егорычем, и мы поедали ее вместе, ну, делясь разве что с кем-то из политических. Одним из них был Толя Аваков.
Толя сидел в Пятом отделении, нас объединяли на прогулке, ибо Пятое отделение работало в две смены, начинавшиеся еще до подъема, — оно готовило еду на все СПБ. С первой сменой мы и бродили по дворику.
В Пятом отделении Толе было несладко. Почти пять лет подряд в СПБ ему приходилось глотать нейролептики, он получал трифтазин — и это было сразу заметно по его трясущимся рукам, которые били о бедра даже тогда, когда Толя спокойно стоял.
Аваков оказался за решеткой уже во второй раз. Сначала в 1969 году он, рабочий из Комсомольска-на-Амуре, написал на выборном бюллетене антисоветский лозунг и опустил бюллетень на «тайном голосовании» в урну. Кроме того, возмущенный оккупацией Чехословакии, Толя, также без подписи, отправил несколько писем в редакции советских газет. КГБ «анонимщика» нашел и отправил его на пять лет в «солнечную Мордовию».
О втором своем аресте Аваков отзывался пренебрежительно. Поняв, что жизни под колпаком КГБ ему не будет, он решился бежать — в Китай. Плана вообще никакого не было. Пытался пробраться к Амуру, быстро нарвался на пограничников — после чего оказался в СПБ.
Политические зоны редко воспитывали зэковские качества, главным из которых было уметь выскочить из котла с кипятком через секунду после того, как тебя туда засунут. Не получился зэк и из Толи Авакова. Я приносил ему на прогулки пакеты сахара, банки лосося, перелитые в пластик, — и все это с риском нарваться на глаз-рентген Павла Иваныча. Объяснял Толе, как надо вести себя с санитарами, чтобы не глядели тебе в рот. Ничего из этого не работало, Толя не мог с ними договориться. Он был слишком честен для того, чтобы жить в СССР.
Рядом с нами с Егорычем, не получавшими и таблетки, Аваков представлял жалкое зрелище. Тощий, с желтой кожей, трясущийся от нейролептиков, он как будто бы был гостем с другой планеты. Однако при этом в меру сохранял ясность ума и речевые способности — которые у меня в Третьем отделении нейролептики некогда отбили напрочь. В сентябре Авакова, наконец, освободили — вернее, перевели в городскую психбольницу в Комсомольске-на-Амуре. Мы с Егорычем радовались за него — хотя и было грустно, что потеряли друга.
Обычной темой наших разговоров в то время было положение в Польше, где разворачивалась «Солидарность». Со стороны наша беседа должна была выглядеть картиной Сальвадора Дали. Заключенные психиатрической тюрьмы, находившейся куда ближе к Тихому океану, чем к Висле, бродя по тюремному двору, обсуждали события в заграничной Польше. Однако кое-кто к этим разговорам относился серьезно.
Это были «брат и сестра» Рымарь и Вера-шпионка, которые уже следили за энергичными движениями Егорыча и спором, слышать который не могли, но и так чувствовали, что он приближается к грани «не положено». Поэтому они в четыре глаза наблюдали за нашими передвижениями — и как существа, стоявшие на низкой ступени эволюции, которые еще не умели вращать глазами, синхронно поворачивали вслед нам головы.
Толя их не замечал, Егорыч все отлично видел, но обожал дразнить гусей, я же был пока спокоен. Политическим в рабочих отделениях дозволялись дискуссии на любые темы между собой. Об этом мне как-то намекнула умная старшая медсестра Валентина Ивановна — при этом поставила условие: только чтобы в этих разговорах не участвовали другие зэки.
Зэки вообще частенько обращались ко мне или к Егорычу за разъяснениями по политическим вопросам. Обычно это было по делу. В Афганистане шла война, Рейган начинал свой «крестовый поход» против коммунизма, что-то происходило в той же Польше. Что происходило, понять было невозможно — газеты и новости, как всегда, дурили головы, и зэки своим инстинктом это хорошо чувствовали.
Тогда отлично умевший читать между строк Егорыч объяснял им суть политических событий. Однако большей частью наши товарищи по несчастью приходили, затеяв обычный бессмысленный тюремный «базар» с вопросами типа: «Кто первым открыл Америку — русские или англичане?» или «Какого царя сверг Ленин — Николая Первого или Второго?»
Все равно «базары» оставались забавным тюремным аттракционом. Но главным из источников зрелищ был, конечно, телевизор. Его разрешалось включать после шести вечера по рабочим дням и в нерабочие — почти весь день. Смотрелись только три категории передач. Первой было, конечно, кино, и что древние «Комсомольцы-добровольцы», что французская комедия — все фильмы имели свою благодарную аудиторию.
Тогда в коровник набивались зэки со всех камер, усаживались — не без ругани — на чужие койки или, опустошив мусорные ящики, устраивали из них себе комфортные сиденья «в партере». Как раз в это время пошли поздние советские мелодрамы, где появлялись уже не первой молодости секс-бомбы советского кино — Людмила Гурченко, Ирина Муравьева, Наталья Гундарева. И было умилительно смотреть, как деревенский мужик Коля Катков, застреливший свою жену, сострадает героине, оставшейся в одиночестве из-за непутевого мужа. Впрочем, Коля тоже остался одинок — возможно, отсюда и сочувствие.
Двумя другими популярными жанрами были футбол и балет. И то и другое смотрели все, и аудитория периодически взрывалась ревом, успокаивать который являлась из процедурки обеспокоенная медсестра. В первом случае восторг обозначал гол, во втором — смелый прыжок Майи Плисецкой, во время которого открывалась линия трусиков балерины.
Кроме путаных советских новостей, больше смотреть особенно было нечего. Телевизор имел лишь две программы — круглосуточную московскую и вечернюю местную. Принимал он еще и две китайских, включать которые было категорически запрещено.
Лично я изредка смотрел только по воскресеньям «В мире животных». На взгляд обитателя сумасшедшего дома, мир «братьев наших меньших» выглядел гораздо более рациональным и человечным — пусть такое сочетание и звучит как оксюморон. Животные убивали только из необходимости. Но было невозможно понять, зачем меня пытались убить последовательно Петухова, Шестакова, Шпак и Гальцева, — у них не было никакой необходимости это делать.
То же относилось почти к половине зэков. В Шестом отделении Кисленко сразу снижал всем дозу, а то и отменял лекарства вообще — и ничего не менялось. Зомби постепенно приобретали человеческий облик, инциденты в отделении случались не чаще, чем и в других, ну а дрались «особо социально опасные душевнобольные» гораздо реже, чем вроде бы вполне вменяемые люди в тюрьме.
После прогулки надо было ждать самого приятного события дня: выдачи личных продуктов — если, конечно, оставалось что из посылок и отоварки.