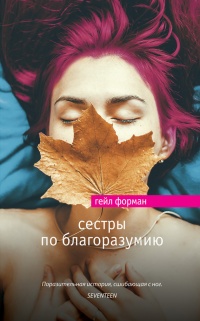Книга Аппендикс - Александра Петрова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я не знала, с чего начать. Если она не хочет жить с бомжами, значит, сама себя таковой не считает? А кем тогда? Другая вечная тема – женской любви – тоже казалась неподъемной в подобный час. Что уж говорить об ответственности художника или польско-русских отношениях.
Негритенок с полки таращил глаза, что-то подсказывал. Пока я пыталась его понять, Оля сказала:
– Пить я начала из-за Чернобыля.
– Да? А не из-за войны двенадцатого года? – Я уже не смотрела на негритенка. Она снова начинала меня раздражать. Разве не рассказывала она недавно о своей жизни в русской глубинке? При чем же тут Чернобыль?
Между тем, если бы я все-таки снова взглянула на гораздо более чуткого, чем я, черного пупсика, сидевшего к тому же недалеко от атласа, он смог бы разрушить мое невежество и быстренько выдать мне полную справку об Олиной правдивости.
«Эта овчарка, – склоняясь над моей кроваткой, проскрежетала челюстями худая Хильда, чье имя было еще холодней, чем преподносимый ею фарфоровый серый пес, – будет предупреждать взрослых, когда ты будешь думать о плохом или совершать плохое даже тайно». До этого – или мне так только казалось? – я не знала, что такое думать о плохом, и потому никогда о нем и не думала. Для тайноделания тоже был необходим умысел. Если плохое раньше и свершалось, то лишь неумышленно, но начиная с этой ночи мне стало тяжело не думать о. Нетрудно было догадаться, что именно это могло бы быть. Конечно, письки и попки, то есть даже жопы и пердение, обмазывание козявок о железку кровати, подъедание застрявшего в щелях булочной изюма в шоколаде, вырывание усиков у кота и бог весть еще что. Эти мысли начали преследовать меня, они делались все более архитектурно сложными, и, в невозможности отделаться от них, я возненавидела пса как свидетеля и безмолвного ментора. Однако я не решалась даже отвернуть его в другую сторону.
Вскоре, однако, оказалось, что не только фарфоровая овчарка Хильды, но и тот, кто, подобно Яшину, бессменно стоял на воротах, тоже умел читать наши мысли. Плохие и хорошие, но в основном, конечно, плохие, и мог, если что, просигналить о них взрослым, имея с ними тайный язык знаков.
Его называли по-простому Ленин, и он был повсюду: на площадях во время главных праздников в мае и ноябре, в апреле в свой день рождения, в феврале в День Советской армии. Исчезал он, пожалуй, только в декабре, когда его место ненадолго занимал Дед Мороз, и это было счастливое время. Но даже и в декабре в поликлинике именно Ленин, а не Дед Мороз безучастно смотрел, как меня слушает врач, как медсестра, устроившись на высокой табуретке, не стыдясь, прямо перед отцом и матерью, сосет мою кровь через трубку или тащит, громыхая, железный ящичек со шприцами.
Так же и в детсаду, в каждой его комнате, он буравил нас взглядом. Мы знали, что сразу за его спиной начинается коридор и что нельзя смотреть ему прямо в глаза, иначе тебя самого могло засосать в глубь коридора, по всей длине которого неподвижно, словно доспехи рыцарей, стояли милиционеры в голубых рубахах. В самом конце была еле заметная дверь. Угодивший за нее уже не смог бы, конечно, никогда вернуться.
Никто не знал, почему его называли просто Ленин. Лена была смуглая девочка с бородавкой, и, хотя она никак не признавалась в своей власти, стоило, видимо, вести себя с ней поосторожней.
Одет он был в кепку, как многие пьяницы, с бородкой, как у доброго доктора на картинках, но от его узких, терявшихся в складках кожи глаз становилось всегда зябко. Он никогда не спал. Никогда. Во всяком случае, никогда во время тихого часа.
Каждый день мы расставляли хранящиеся в шкафу раскладушки, и однажды рядом с моей поставил свою Эдик. Высокий блондин в очках, он, как и я, не любил ходить за руку на прогулках. Теперь мы лежали и смотрели друг на друга.
– Хочешь посмотреть на кое-что? – спросил он шепотом. Он был без очков и придвинулся очень близко. – Можешь даже потрогать. – Он взял мою руку и просунул под свое одеяло.
Коснувшись белоснежной кожи пальцами, я пересекла границу его трусов. Эдик оттянул их, чтобы мне помочь. Ну и ну! Внутри них жил горячий резиновый змей. Чтоб увидеть его, нужно было немного отодвинуть одеяло, но тогда и Ленин мог бы его разглядеть. Он был довольно далеко от нас и, по-видимому, занят другими, но все-таки рисковать не стоило. Однако скорей всего предмет, который я сейчас держала в руке, был похож на то, что меня однажды так заворожило в единственном месте свободы, куда не достигал взгляд Лениного, когда Мишка показывал класс другим мальчишкам.
И вот, хоть я и держала чудесного змея в руке, я старалась о нем, да и вообще ни о чем не думать, чтобы мои мысли не долетели ненароком и до Лениного. Кожаный змей был ручным, и, когда я его сжала, Эдик тоже просунул руку под мое одеяло. В животе стало жарко. Все это было так таинственно, почти как ожидание Нового года, как если поймать живую снежинку на варежку или раскачаться сильно на качелях.
Нелегко было держать змея в руке и все время смотреть на Лениного, но я старалась. «Кто хочет, тот добьется», – вспоминалась мне песенка из «Капитана Гранта», которого мы с отцом раза три посмотрели в Баррикаде. Эдик же, по-моему, совсем забыл про обязанности. Может быть, именно поэтому наказание не заставило себя ждать. Ленин не снисходил к беспечным. На следующий день наши раскладушки оказались далеко, и я почти засыпала, когда услышала грохот и крик.
Кричала Татьяналексеевна, и визжал Эдик. Совершенно голый, он боролся с ней, пока она волокла его между раскладушек к своему высокому столу. Он плакал и хватался за одеяла, за стулья, за ножки наших низких столов, но Татьяналексеевна впивалась мертвой хваткой в его белоснежное тело и тащила его все дальше и дальше. На ее захваты и ногтевые ранения кожа отвечала красными очагами. Он умолял ее на коленях, падал снова, полз и катался в крике. Но Татьяналексеевна неумолимо, сантиметр за сантиметром подтаскивала его к меже. Наконец она затянула его на свой стол. Ослабевшего (он уже больше не плакал), нагого и бледного (и мне вспомнились статуи Диоскуров у большой реки), дрожащего, не глядящего по сторонам. То и дело он пытался прикрыться, но Татьяналексеевна ударяла его по рукам: «Нет уж, пусть все, все, – и она кивала на портрет, – все теперь видят!»
Почти полтора часа Эдик стоял на плахе, с опущенным вниз лицом, на фоне белизны которого особенно ярко сияли его веснушки, а Татьяналексеевна следила, чтоб он не двигался и не прикрывался. Этот змей со сморщенным мешком кожи внизу, которого у меня, например, не было и который вчера был моей тайной, теперь был у всех на виду.
Как гадко все-таки оказывалось быть мальчишкой! Мне было жаль Эдика и страшно, и я не смела даже думать, почему Ленин на этот раз избавил меня от наказания. Лишь случайность отделяла меня от судьбы Эдуарда. Ведь это я сама могла бы стоять так на пьедестале, показывая всем свои глупости.
Или, может быть, Ленин решил меня испытать? Вдруг он любил меня больше, чем Эдика? Ведь все-таки Ленин был еще и моим дедушкой. Хотя уверенность в этом была зыбкой, теперь у нас с этим Лениным появился общий секрет.