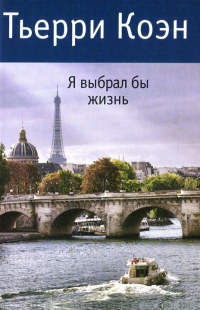Книга Полубрат - Ларс Соби Кристенсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я поворачиваюсь в мамину сторону. Она скрестила руки. И я вполголоса произношу самое последнее предложение, которое Фред, возможно, просто забыл, и никто, по-моему, не разбирает этих слов, которые кажутся мне самыми прекрасными во всём письме, слов шамана Одарка, исполненных настойчивости, любви и мужества, которые юный Вильхельм присвоил себе, когда обращался с письмом к своей суженой, не зная, что его история на этом оборвётся. Эти слова я раскрываю теперь всем: Но я с большой неохотой ушёл бы из жизни сейчас, потому что мне кажется, что жить прекрасно! Мама встаёт. И вешает куртку, замшевую куртку Фреда, на спинку пустого стула, словно он только сидел тут, во время урока, а теперь его выставили в коридор или он сам вышел пописать. И до меня враз доходит, насколько ожидание повредило рассудок матери. И как ей теперь жить дальше с бесплотной тоской, с этой курткой, которая ни на кого не налезает? Мама хочет увести меня с собой на место. — Довольно, Барнум, — шепчет она. — Ты умница. — Но я стою столбом рядом со стулом Фреда, я ещё не всё сказал, и тишина вокруг, которой нет во мне, ширится и углубляется. Никогда ещё Фред не был более живым для меня, чем в эту самую минуту. — Время шутит с нами шутки, — говорю я громко, похоже, кричу. Мама останавливается на месте. Я понижаю голос. — Время разделено на много-много комнат, — шепчу я. — И во всех комнатах что-то происходит, всё идёт одновременно и непрестанно. — И я усаживаюсь на Фредов стул. — Фред учил меня никогда не говорить «спасибо». Но сегодня я отступлю от этого правила. Сегодня я скажу: большое спасибо. Потому что Вивиан наконец забеременела. — Педер выпрямляет спину и разевает рот, но не говорит ничего, а принимается хохотать, и удивлённый смех Педера наполняет церковь на Майорстюен. А я подхожу к Вивиан и целую её, она не может отвертеться. Потом мы стоим на паперти. Выходя из церкви, последние уже гости молча раскланиваются с нами. Вивиан смотрит на меня волком, но она рада, потому что скоро скрывать её положение станет уже невозможно. — Это надо отпраздновать, — говорит мама, глотая слёзы. Она права, теперь мы можем скорбеть и радоваться, одна комната окрашена в траур, а другая полна солнца, но мы так и не знаем, в какой же из них обретается радость. — Я только захвачу кое-что, — бормочу я и припускаю к киоску. В холодильнике с газировками я припрятал две бутылки, тёмный самогон нужен, чтобы забыть, а белый — чтоб вспомнить, с чего ты пьёшь. К остальным я уже не возвращаюсь. Пусть ждут сколько влезет. Рассовав бутылки по карманам, перелезаю через ограду и спрыгиваю с другой стороны. Оттуда пешком дохожу до пансиона Коха. У них есть свободная комната, номер 502 на последнем этаже, бывшее отцово прибежище. Занавески задёрнуты. Лампочка искрит, когда я включаю люстру. — Фред! — кричу я. — Выходи, Фред! Трус бессовестный! Я знаю, что ты здесь! — Опрокидывается стул. Я распахиваю дверцы шкафа, и плечики стукаются друг о дружку у меня над головой. Я вскрикиваю. — Дьявол криворотый! Ты от меня не скроешься, чёрт тебя подери! — Кто-то из коридора просит меня вести себя потише. Я запираю дверь и начинаю пить горькую.
(викинг)
Это как всякая большая любовь. Получив немного, ты хочешь больше. Обретя больше, ты живёшь мечтой об обладании всем. Но и тогда не успокаиваешься, проверяешь, до донца ли отдано тебе всё. В любви нет серединки на половинку. Или всё, или ничего. Любовницы ждут тебя по всему городу, в камере хранения на Восточном вокзале, в чемодане, упрятанном в чулан в подвале, в ящике рабочего стола, за Гамсуном, в цистерне с водой и мусоропроводе, в хлебнице и водостоке, в почтовом ящике и внутреннем кармане, под кроватью и в закрытом киоске: они твои повсюду. Большая любовь начинается красиво, с поцелуйчика, нет, даже не с него, а с нежного прикосновения, за которое вполне сойдёт запах или просто даже вид кое-чего, и ты вспоминаешь свою первую детскую влюблённость, приторный запах «Малаги», который ты вобрал в себя и напитал им свои мечты, потому что ничего больше не требуется, это начало, а в начале Бог сказал: да будет тьма. Ты берёшь стакан, конечно берёшь, ты твёрдо намерен вести себя по-людски, у тебя самые благие помыслы, ты собираешься пропустить бокальчик, нет, стопочку, как говорится, рюмочку, ну или ладно, назовём её нейтрально, стакан, так проще и привычней, и как человек, собирающийся насладиться маленьким стаканчиком кое-чего, ты, разумеется, достаёшь стакан. Это само собой понятно. И когда ты отвинчиваешь крышку и резкий запах водки, виски, джина или другого столь же доходчивого напитка забивает всё вокруг, как благоухающий букет, ты почти счастлив, ты обретаешься на пороге блаженства, с таким-то букетом в руках. И это, наверно, самое чудесное мгновение, пока всё в твоей власти, ты можешь с таким же успехом запаковать букет обратно, но зачем, ты же прельстился одной маленькой стопочкой, вот этой гвоздикой или той розой, подарком любовницы, её молчаливым приглашением, и ты наливаешь стаканчик, аккуратно наливаешь, тут же поспешно закручиваешь пробку и прячешь бутылку назад в шкаф или засовываешь на самую верхнюю полку, как можно дальше с глаз долой, она не нужна тебе больше, с тебя довольно стопочки, и ты сам свято веришь в это, когда со стаканом в руке идёшь в соседнюю комнату или на балкон и усаживаешься там. У тебя в руке букет. Ты ещё не начал пить. Да и не собираешься. Ты только пригубишь. Попробуешь. Получишь удовольствие. Насладишься ароматом. И ты неспешно подносишь букет ко рту, к пересохшим губам. Букет оросит их влагой.
Двое суток спустя ты просыпаешься незнамо где. Ты думаешь, тебе это снится, но нет, всё происходит на самом деле. Букет завял. Жажда мучит тебя, как никогда раньше. Ты алчешь любви и ласки, но ты брошен. Пустая ваза, вот ты кто. Ты поднимаешь руку. Ладонь в крови. Ты не имеешь никакого представления, что это за кровать, в которой ты лежишь. Комната вокруг черна. Ты пытаешься собраться с мыслями. Не собираются. Ну и бог с ними. Тьма подступает ближе. Если лежать не шевелясь, можно попробовать удержать страх на длинном поводке. Правда, не успеешь оглянуться, он у твоих ног, ибо страх твой самый верный спутник сейчас, но сколько-то секунд выгадать можно. Потом ты различаешь какой-то звук. Шелест ветряной мельницы, её крылья вращаются у самого твоего лица, всё быстрее, быстрее, ты слышишь близкое несчастье, крик, визг тормозов и затем безмерная тишина, и ты понимаешь тогда: это я, я лежу здесь, в номере 502 в пансионе Коха. За запертой дверью переговариваются. Потом она распахивается. — Фред? Это ты? — шепчу я. Кто-то захлопывает за собой дверь и раздёргивает занавески. Педер глядит на меня с высоты. — Бог мой, — охает он и рывком задёргивает занавески снова. Потом скидывает пустые бутылки и осколки стакана в мусорное ведро. Раздевает и моет меня. У меня рассечён большой палец на правой руке. Педер промывает рану и заклеивает пластырем. У него и чистая одежда с собой. Толстун ухаживает за кнопкой. Он распахивает окно проветрить комнату. На подоконнике лежит снег. Мне холодно. Потом он наливает в стакан колу и сироп от кашля, добавляет содержимое ампулы и размешивает зелье пальцем. Я выпиваю. — Я тоже ночная душа, — бормочу я. — Ночная душа? — У нас полно таких в роду, Педер. Люди, которые уходят и пропадают во тьме. — Ты вроде пока не пропал. Насколько я вижу. — Но я уже на пути. — Куда это ты на пути? — хотел бы Педер знать. — На дно. Прочь. В тартарары. Один чёрт. — Педер отворачивается. — А как насчёт того, что есть люди, которым ты нужен здесь? — Я опускаю глаза и тихо спрашиваю: — Как ты меня нашёл? — Педер присаживается на кровать. — Барнум, я тебя всегда нахожу. Ты всё ещё не понял? — Я упираюсь лбом ему в плечо. — Может, я не хочу, чтобы меня находили, — шепчу я. — Но я-то тебя всё равно найду. Я твой друг. Так и знай. — Мы сидим так некоторое время, молча. Мне хочется плакать, но не плачется. Тогда я пробую обратить всё в смех. — Так у меня выбора нет? — шепчу я. Педер с прежней серьёзностью мотает головой. — Вивиан тревожится, — говорит он. Я гляжу на него. И вдруг спрашиваю: — Ты отец? — Дальше всё произошло мгновенно. Педер звезданул мне в морду. Я откинулся назад. Он взгромоздился на меня верхом и стал мутузить. — Ты не слышал, что я сказал? — кричит он. — Я твой друг! Чёртов ты алкаш! — Надо бы его унять. Ударов я не чувствую. Он молотит руками, как рассерженный мальчишка. В конце концов мне удаётся издать смех. Педер сразу тухнет. — Хочешь — можешь ещё меня стукнуть, — сиплю я. — Заткнись, — огрызается Педер. Я беру его руку. Она дрожит. Потом мы валимся на колченогую, раздолбанную двуспальную кровать и лежим, таращимся в потолок. В него вбит огромадный крюк прямо посерёдке, а штукатурка вокруг него разлезлась и висит лишаями. — Отец здесь живал, — говорю я. — Он тоже был ночной душой? — спрашивает Педер. — Он был самой тёмной лошадкой из нас всех, — шепчу я. Педер длит молчание. Теперь он держит меня за руку. — Барнум, а вдруг доктор, у которого ты обследовался, ошибся? — Доктор Греве никогда не ошибается. — И ты до сих пор не сказал Вивиан? — Я зажмуриваюсь. Крутится маховик лжи, чёрное колесо, и его невозможно остановить. — У тебя есть выпить? — спрашиваю я. — Ты пускаешь в отходы собственную жизнь, чикаешь её ножницами по имени алкоголь, — говорит Педер. — Паясничать обязательно? — Педер наконец-то улыбается, выпускает мою руку и встаёт. — Пошли, — бросает он. — Куда? — Отсюда, Барнум.