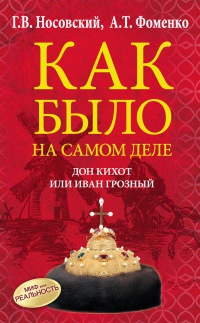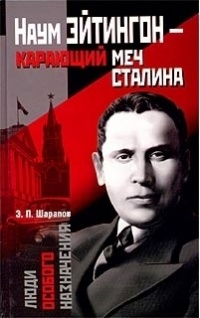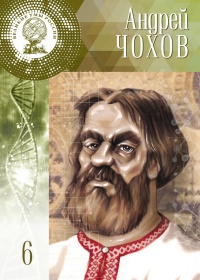Книга Испанский смычок - Андромеда Романо-Лакс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как я мог это забыть, недоумевал я.
В каждом такте был его след. Музыка жила в нем, они были неразрывно связаны. Больше тридцати лет я встречался с этим человеком, знал о нем все — что он ел, сменил ли рубашку, болят ли у него ноги, снились ли ему кошмары или, напротив, сладкие эротические сны. Я видел его насквозь. Считал его политическим оппортунистом самого худшего толка. Но знал ли я его по-настоящему?
И вот теперь он собирается жениться на Авиве, чтобы исчезнуть вместе с ней. Куда они направятся после Нью-Йорка? В Лос-Анджелес? В Мексику? В Бразилию?
Он назвал собрание фортепианных пьес «Все, что я знаю». Он и был всем, что он знал.
Наступило утро. Иешуа прогревал мотор автомобиля, собираясь отвезти меня на станцию. Я собрал все бумаги. Я не мог оставить их здесь. Моя история была не закончена, а я не знал, вернусь ли сюда из Андая. У меня не было выбора. И я забрал с собой все: все листы, вобравшие в себя жизни двух человек.
— И что было дальше? — спросил журналист после того, как я заново наполнил его бокал. Он просил виски, но иностранные напитки было трудно достать на Кубе, по крайней мере при моих средствах. Вместо этого я угощал его ромом.
— Поезд, контрольно-пропускные пункты, охраняемая станция в Андае… Потом выяснилось, что у нас нет концертных костюмов. В сопровождении немецких офицеров мы отправились к портному. Представьте себе испуг этого несчастного, когда к нему ворвались четыре гестаповца, срочно требуя два смокинга! Рядом стояла его жена, ни жива ни мертва, бедная женщина! Отглаженные смокинги вскоре доставили, но они нам не подошли: предназначавшийся Аль-Серрасу оказался ему мал, а мне мой — велик. К тому же все это время у меня не было возможности писать.
— Вы возили рукописи с собой?
— Я прятал их в футляре для виолончели. Мне не хотелось показывать их Аль-Серрасу. Он-то думал, что его сочинения у Фрая.
— Вы не боялись, что кто-то их увидит?
— А чего бояться? Ведь мы были музыканты. Естественно, что мы возили с собой инструменты и ноты. Конечно, был риск, что кто-то сунет нос в бумаги и обнаружит записи на обратной стороне… Я ведь писал очень откровенно. Не только о том, что думаю о Гитлере. О наших стычках с гестапо… Даже намекал на дальнейшие планы Аль-Серраса и Авивы.
— Она боялась?
— Она думала о побеге.
— Ее могли схватить.
— Конечно. Они с Аль-Серрасом планировали сесть в шлюпку и добраться до Бискайского залива, где их должно было ждать рыболовецкое судно. Но боялась она не этого. Она боялась покидать Европу. Она ведь уже предпринимала такую попытку, в 1929 году. Но не смогла остаться в Нью-Йорке из-за тревоги за сына. Теперь все стало еще хуже. Она говорила с людьми, вырвавшимися из нацистских лагерей. И была в курсе подробностей, которые стали нам известны только после освобождения. Она дошла до того, что готова была добровольно сдаться властям, чтобы самой попасть в лагерь — в Биркенау или Освенцим, потому что верила, что найдет его там. Ей объясняли, что заключенные лагерей редко живут в них больше шести недель, а дети даже меньше, но она никого не хотела слушать. Из талантливых музыкантов формировали лагерные оркестры, которые исполняли не только похоронные марши, но и развлекательную музыку для охраны и начальства. Одаренный ребенок мог находиться в лагере годами, как певчая птица в клетке. А она не сомневалась, что ее сын — вундеркинд.
В поезде по пути к Андаю, положив голову мне на плечо, она рассказывала, как ее сын любил забираться под рояль: «Он прислонялся щекой к дереву, чтобы слышать вибрацию струн». Она говорила об этом с такой уверенностью, что мне стоило труда возразить ей. Я старался говорить как можно мягче: «Ты никогда этого не видела, Авива. Ты ведь никогда не видела своего сына. Понимаешь?»
Помню, она цитировала Брехта, утверждавшего, что к еврейским беженцам все относятся с подозрением, даже родственники, даже друзья. У нее был особый подход к тем, кто потерял близких. Это делало ее непредсказуемой, опасной для тех, кто решался связать с ней судьбу.
— Что же было дальше?
Я перевел дыхание и пошуршал листками. Я не зачитывал отрывков, но водил пальцем по строчкам — это придавало мне уверенности.
— Так что же? — повторил Вильгельм.
— Дальше я ничего не написал, я же вам говорил.
Он был терпеливым человеком. Особенно если учесть, как долго я водил его за нос. Я узнал о его существовании в 1957 году, когда он начал работать над биографией Аль-Серраса. Но лишь пять лет спустя, когда вышла его книга под названием «Пропавший вундеркинд», я оценил его талант. Биографические данные, приведенные под фотографией на клапане суперобложки, несмотря на краткость, сообщали немало: Вильгельм Эрлихт прибыл в Нью-Йорк в семилетнем возрасте с приемными родителями. До тридцати он выступал как пианист, затем, заинтересовавшись историей и собственным прошлым, занялся писательством. В тексте намекалось, что автором двигало желание больше узнать о своих корнях.
И вот Вильгельм стоял передо мной, нетерпеливо комкая полы синего пиджака.
— Не волнуйтесь, — сказал он. — Не беспокойтесь о последовательности. Просто расскажите мне, что случилось в Андае.
— Все пошло не так, — как можно спокойнее ответил я. — Эта затея Аль-Серраса оказалась не такой удачной, как предыдущие. Например, как идея запасти бензин в бутылях…
Он ждал.
— Вильгельм, я сделал нечто ужасное.
Я замолчал. Он сел на стул, опершись локтями о колени. Отвороты брюк задрались, открывая взору поношенные мокасины, совсем не сочетавшиеся с черными шелковыми носками. В его манере одеваться было что-то от человека богемы, вынужденного мириться с навязанными обществом условностями. Он весь обратился в слух.
— Я не доверяю своим воспоминаниям, — сказал я.
— Рассказывайте.
— Я не доверяю словам. Как можно доверять словам, когда ничего не стоит извратить их смысл? Вот вам пример. Мое имя. Мать хотела назвать меня Фелис. По-испански это означает «счастливый»…
— Я знаю, что оно означает по-испански, — перебил он меня. — Затем сборщик налогов, ваш брат, ваша тетя — оно было изменено на Фелю — ваша сестра в подвале, ваша мама, спускающаяся по лестнице. Эту историю я уже знаю.
Я откинулся назад и прижал рукопись к груди, прикрыв локтем обратную сторону последней страницы.
— Извините, Вильгельм.
— Если вы так чувствительны к именам, — громко сказал он, — перестаньте называть меня именем, которым я не пользуюсь. В моих водительских правах написано «Уильям». Друзья зовут меня Уил.
— Виноват. Извините.
— Ваше детство, ваша ранняя карьера — я слушал об этом часами. Но это был не просто профессиональный интерес. Если вы вините себя в том, что с ней случилось, то расскажите мне, как было дело. Если вы намекаете, что вы убили Аль-Серраса или донесли на него куда следует, то скажите об этом прямо. Вы же не скрывали, что он разрушил вашу жизнь.