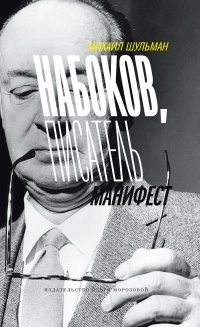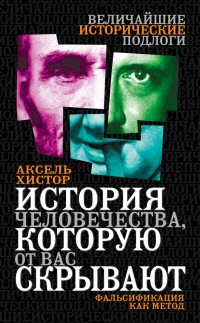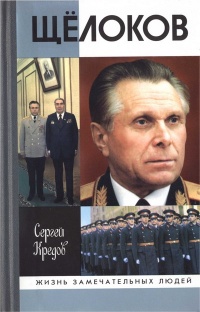Книга Врубель - Вера Домитеева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Горы! Ущелье, в котором лежал разбившийся Демон, не годилось. Не так, не там должна была свершаться вселенская трагедия.
— Помогите и поскорее достаньте где-нибудь фотографии гор, лучше Кавказских. Я не засну, пока не получу их, — молил Врубель в записке, которую вечером получил Владимир фон Мекк.
Бесконечно преданный Михаилу Александровичу Владимир Мекк кинулся на поиски. «Уже почти ночью, — рассказывает он, — я достал у знакомого фотографии Эльбруса и Казбека и послал. В эту ночь за фигурой Демона выросли жемчужные вершины, овеянные вечным холодом смерти».
«Вчера ночью, — известил фон Мекка благодарный живописец, — я был совершенно в отчаянии от моей работы. Она мне показалась совершенно и вконец неудачной. Но сегодня я дал генеральное сражение всему неудачному и несчастному в картине и, кажется, одержал победу».
Юного московского богача Владимира Владимировича фон Мекка, внука железнодорожного магната Карла фон Мекка и его супруги Надежды Филаретовны, вошедшей в историю благодаря ее эпистолярной дружбе с Чайковским, друзья называли Волей, Волей Мекком. Даже имя Владимир звучало чересчур монументально применительно к этому субтильному, в скромном студенческом сюртуке похожему на подростка, от стеснительности густо красневшему и заикавшемуся меценату. А Воля Мекк в свои 24 года уже был крупным меценатом. Его собрание пополнялось значительными произведениями Серова, Сурикова, братьев Васнецовых, Левитана, Сомова, Константина Коровина. Его деньги верно служили осуществлению экспозиционных, книгоиздательских проектов «Мира искусства». Он хорошо чувствовал живопись. Полученные в детстве уроки Серова, а позже Врубеля не научили Волю Мекка писать картины, но общение с Врубелем стало для него великим счастьем, и творческая отрада Мекка, найденная им в сочинении причудливых дамских нарядов, возникла тихим отголоском боготворимой врубелевской фантазии. Мягкосердечие, застенчивое благородство конфузливого молодого богатея покоряло даже присяжных циников. Для Михаила Врубеля зимой 1901/02 года молодой его друг и почитатель Владимир фон Мекк, похоже, остался единственным светлым пятном в толпе наводнивших искусство завистников, лицемеров, интриганов.
Яростными очами поверженного Демона невыносимо было глядеть на их бездарное, бессовестное скудоумие.
Врубеля страшно раздражал поднявшийся в среде московских коллег ропот против «дягилевской диктатуры» и соответственный план отколоться от группы петербуржцев. Негодующие чувства плеснулись письмом Остроухову, предводителю взбунтовавшихся москвичей. Возмущение в письме изложено сумбурно, текст полон выражениями, прежде немыслимыми в устах Врубеля, художник явно в нездоровом взвинченном состоянии, зато предельно ясна личная позиция в перипетиях возникшей распри.
«Илья Семенович, — нервно пишет Врубель, — я понял Вас, двух стоеросовых орясин: у тебя и Переплетчикова ведется вкупе с непрозревшими щенками, что тычутся мордами в свое собственное кало, принимая его за материнское молоко, борьба против тех светлых мечтаний, что установило собрание членов выставки Мир Искусства как руководящую стезю… Мы, Мир Искусства, хотим найти для общества настоящий хлеб, а не кормить его московским Еванством и Толстовской указкой…»
Вот сколь солидарно Михаил Врубель отстаивал правоту петербургских товарищей по борьбе за искусство безупречных пластических качеств и высокой эстетической культуры. Мог ли он ожидать удара от мирискусников? Нет, самого его ничем не оскорбили. Наоборот: в журнале «Мир искусства» наконец-то дали подборку репродукций его картин, сопроводив снимки краткой справкой о нем и достойной оценкой его многолетнего творчества. Убит был стародавний добрый друг Врубеля, Антон Антонович Риццони. Острословы, походя, небрежным приговором отшвырнули старика и убили, отнюдь не фигурально прикончили его.
Со времен наидревнейших письменных эпосов поэзия открыла, что больнее всего человеку не собственная смерть, которая потушит сознание и муки, а неутешно раздирающая сердце гибель близкого. В июне 1901-го, когда Врубель на хуторе писал второй вариант «Сирени», очередной номер «Мира искусства» опубликовал небольшую заметку о таком курьезном анахронизме, как римский старожил, ревнитель затхлого храма российской Академии художеств Антон Риццони. Хлестко писавший под псевдонимом «Силен» Альфред Нурок, не пощадив академическую рухлядь, назвал Риццони «самым плохим из легиона плохих художников». Надо думать, Врубеля передернуло при чтении этих строк — Риццони он любил, и утонченно эстетская бесчеловечность еще обиднее хамства «неумытых». Однако трагической развязки никто не ожидал. Получив оплеуху от обожаемой им русской художественной молодежи, Риццони заболел, полгода мучился, признал ничтожность его творческих усилий и покончил с собой.
Глубоко раненный этой смертью, Врубель вначале отозвался на гибель собрата стихотворным «венком на могилу умершего оскорбленным». Но наброски стихов не удовлетворили, и он составил послание, скорее даже воззвание, в котором с замечательной ясностью выразил свою горечь, свое понимание истинных ценностей, свой взгляд на рафинированных просветителей с их интеллектуальными кумирами.
«Я был глубоко потрясен и тронут концом А. А. Риццони, — писал Врубель. — Я прослезился. Такой твердый хозяин своей жизни, такой честный труженик! И что же могло повергнуть его в такую бездну отчаяния? Честный труженик! Вы скажете, это пристрастие друга? Недавно еще на страницах „Мира Искусства“ так презрительно и пристрастно трактовали эту честность. Господа, да мы забываем, в каких руках суд над нами, художниками. Кто только не дерзал на нас? Чьи только неуклюжие руки не касались самых тонких струн чистого творчества? Рискуя парадоксальностью, укажу на еще гремящее имя Рёскина. Много ли в этой очаровательной болтовне интересного для художника? О неумытых руках я уже и не говорю. Не удалось ли этой вакханалии роковым образом спутать представления и в нашей среде.
Да, нам нужно оглянуться, надо переоценить многое. Нужно твердо помнить, что деятельность скромного мастера несравненно почтеннее и полезнее, чем претензии добровольных и недобровольных невропатов, лизоблюдничающих на пиру искусства. Особенно отвратительны добровольцы. В моей памяти мелькают имена, которые я оставляю при себе. И потом эта недостойная юркость, это смешное обезьянничанье так претят истинному созерцателю, что мне случалось не бывать по целым годам на выставках».
Кратко обрисовав натуру погибшего, упомянув академию («господа, пожалеем нашу опрометчивость в нашем суде над нею») и поклонившись художнику, который простым чистым сердцем «сроднился с миловидным, с идиллией, положив все силы своего таланта на возможно добросовестную работу», эпитафию Михаил Врубель заключил призывом: «Пора убедиться, что только труд и умелость дают человеку цену, вопреки даже его прямым намерениям; вопреки же его намерениям он и заявит себя в труде, лишенном искательных внушений. И когда мы ополчились против этой истины? Когда все отрасли родной жизни вопиют, когда все зовет вернуться к повседневной арифметике, к простому подсчету сил. Эта истина впервые засверкала, когда об руку с ней человек вышел из пещеры в историю. Дорогой каменный человек, как твоя рыжекудрая фигура напоминала мне эти тени наивных старателей. Сколько в твоей скромности укора самозванцам!»