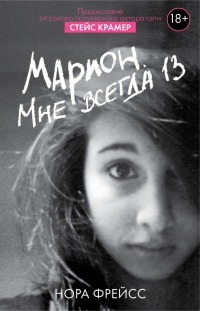Книга Я исповедуюсь - Жауме Кабре
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Алло? Да, минуточку. Лаура, это тебя.
Я стою с трубкой в руке, она смотрит в пустоту, не проявляя ни малейшего желания протянуть руку к телефону, стоящему у нее на столе. Я снова поднес трубку к уху:
– Она вышла.
Тогда Лаура сняла трубку со своего телефона и сказала: алло, я слушаю. Я повесил, а она сказала: эй, дорогая, что поделываешь? И засмеялась хрустальным смехом. Я собрал свои записи об искусстве и эстетике, у которых еще не было имени, и сбежал с кафедры.
– Мне нужно кое-что обдумать, – сказал доктор Будден, вставая и оправляя свой безупречный китель оберштурмфюрера, – потому что завтра у нас поступление.
Он посмотрел на оберлагерфюрера Хёсса, улыбнулся и, зная, что тот не поймет его, добавил:
– Искусство необъяснимо. – Он махнул рукой в сторону гостеприимного хозяина. – Можно лишь сказать, что это проявление любви художника к человечеству. Вам так не кажется?
Покидая дом оберлагерфюрера в уверенности, что тот еще переваривает его последние слова, Будден услышал откуда-то издалека слабые, съежившиеся от холода звуки совершенно ангельского финала трио Шуберта (опус сотый). Без этой музыки жизнь была бы ужасна – нужно было сказать хозяину, будучи в гостях.
Дела пошли хуже, когда я уже практически закончил редактуру «Эстетической воли». Корректура, перевод на немецкий, заставлявший меня делать вставки и добавления в оригинал, комментарии Каменека к моему переводу, которые также подвигали меня уточнять и переписывать текст, – все это вместе вносило заметную нервозность в мою жизнь. Я боялся, что книга, которую я издавал, меня удовлетворит. Я много раз говорил тебе об этом, Сара: это моя самая любимая книга; не знаю, самая ли лучшая, но самая любимая – точно. Следуя велениям своей вечно недовольной души, от которой приходилось страдать и тебе, в те дни, когда Сара вносила в мою жизнь спокойствие, а Лаура делала вид, что она со мной не знакома, Адриа Ардевол как одержимый часами играл на Сториони – это был его способ справиться с тоской и волнением. Он повторил самые трудные упражнения Трульолс и самые неприятные – маэстро Манлеу. И через несколько месяцев пригласил Берната сыграть сонаты (опус третий и опус четвертый) Жан-Мари Леклера.
– Почему Леклера?
– Не знаю. Он мне нравится. И я их выучил.
– Это не так просто, как кажется.
– Ну так ты хочешь попробовать или нет?
В течение нескольких месяцев, каждую пятницу по вечерам, две скрипки наполняли дом музыкой. А всю неделю перед этим Адриа, встав из-за письменного стола, разучивал репертуар. Как тридцать лет назад.
– Тридцать?
– Или двадцать. Но тебя мне уже не догнать.
– Слушай, еще бы. Я же только этим и занимался.
– Я тебе завидую.
– Издеваешься?
– Я тебе завидую. Я хотел бы уметь играть, как ты.
В глубине души Адриа хотелось дистанцироваться от «Эстетической воли». Он хотел вернуться к произведениям искусства, которые заставили его задуматься над тем, о чем он теперь писал.
– Да, но почему Леклер? Почему не Шостакович?
– У меня не тот уровень. Иначе почему, ты думаешь, я тебе завидую?
И обе скрипки – Стриони и Тувенель – наполнили дом щемящей тоской, как если бы жизнь могла начаться заново, как если бы она могла дать им еще один шанс. Мне – чтобы родители были больше похожи на родителей, чтобы они были другие, более… Не знаю… А тебе, а?
– Что? – У Берната был перетянут смычок, и он старался смотреть в другую сторону.
– Ты счастлив?
Бернат начал сонату номер два, и мне пришлось последовать за ним. Но когда мы закончили (три грубейшие ошибки с моей стороны и только одна взбучка от Берната), я вернулся к своему вопросу:
– Послушай…
– Что?
– Ты счастлив, говорю?
– Нет. А ты?
– Я тоже нет.
Следующая соната, номер один, получилась у меня еще хуже. Но мы смогли добраться до конца не прерываясь.
– Как у тебя с Теклой?
– Хорошо. А у тебя с Сарой?
– Хорошо.
Тишина. Долгая пауза.
– Ну… Текла… Не знаю, она всегда на меня злится.
– Потому что ты живешь в своем мире.
– Кто бы говорил.
– Да, но я же не женат на Текле.
Потом мы сыграли несколько этюдов-капризов Венявского из опуса восемнадцатого. Бедный Бернат, игравший первую скрипку, взмок как мышь, а я был доволен, несмотря на то что он трижды адресовал мне весьма нелестные замечания – вроде моих, когда я критиковал его рукопись в Тюбингене. И я очень и очень ему позавидовал. И не смог удержаться, чтобы не сказать ему: я отдал бы все свои рукописи за твою музыкальную одаренность.
– Я согласен. Меняюсь с удовольствием, что скажешь?
Самое плохое, что мы не рассмеялись – только взглянули на часы, потому что становилось поздно.
И точно, ночь оказалась короткой, как и предвидел доктор, потому что первые единицы материала начали поступать с семи утра, еще затемно.
– Эту, – сказал Будден обершарфюреру Бараббасу. – И тех двоих.
Он вернулся в лабораторию, потому что на него обрушился вал работы. Была и другая причина, неясная и затаенная: в глубине души он не мог видеть женщин и детей, организованно тянувшихся, подобно овцам, друг за другом через двор и не проявлявших никакого чувства собственного достоинства, которое побудило бы их к восстанию.
– Нет, не трогайте ее! – воскликнула пожилая женщина, прижимавшая к себе, словно ребенка, сверток, похожий на скрипичный футляр.
Доктор Будден сделал вид, что не слышит ссоры. Удаляясь, он видел, как доктор Фойгт выходит из офицерской столовой и направляется к месту, откуда доносились крики протеста. Конрад Будден даже не счел нужным скрыть гримасу презрения, которое он питал к любившему склоки начальнику. Едва войдя в кабинет, Будден услышал выстрел из пистолета Люгера.
– Откуда ты? – сухо спросил он, не поднимая головы от бумаг. В конце концов ему все-таки пришлось поднять голову, потому что девочка растерянно смотрела на него и ничего не отвечала. Она мяла в руках грязную салфетку, и доктор Будден начал раздражаться. Он повысил голос: – Стой спокойно!
Девочка застыла, но на ее лице была написана та же растерянность. Врач вздохнул, сделал глубокий вдох и запасся терпением. В этот момент у него на столе зазвонил телефон.
– Да? / Да, хайль Гитлер. / Кто? (Удивленно) / Передайте ей трубку. / (…) – Heil Hitler. Hallo. – С нетерпением: – Ja, bitte?[322]/ А теперь в чем дело? (С неудовольствием.) / Что за Лотар? (С раздражением.) / А! – И возмущенно: – Отец этого негодяя Франца? / И что тебе нужно? / Кто его арестовал? / А почему? / Ну, знаешь… Тут уж я и сам… / Я сейчас очень занят. Хочешь проблем на нашу голову? / Ну, что-нибудь наверняка сделал. / Послушай, Герта: кто заварил кашу, тот пусть ее и расхлебывает.