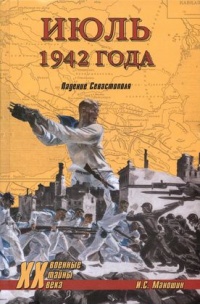Книга Вне закона - Овидий Горчаков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Еще в хате едко пахло порохом после расстрела агентки гестапо, когда над ребенком склонился, приподняв одеяло, сшитое из разноцветных ситцевых лоскутков, Трофимов, неприметный, пожилой боец.
Задрав кверху пухлые кривые ножки, ребенок тянул их в рот, ни о чем не догадываясь. Маленькое тельце, большая в красной сыпи голова с бездумными, глупыми глазами и сопливым носом… По спине моей пробежал озноб.
– Пошли, Трофимов, – позвал я его, застегивая кобуру. – Забирай ребенка.
– Жалеешь, никак? – спросил земляка очутившийся тут же юркий Блатов.
Трофимов шмыгнул виновато угреватым носом:
– Месяцев десять человеку. Ишь, улыбается, шельма! – В сенях он тем же тоном проговорил: – Столечко и моему было, когда я в ополчение уходил. Эх, война, дери ее мать!
– Ишь, сердобольный какой выискался! – запальчиво сказал Блатов. – Сказано – значит, сполняй без сумленья. Коли кровью в отца, так и бровью. Кр-р-рапивиое семя!
– А ты что привязался? – огрызнулся на дружка Трофимов. – Это им, командиру, не понять отцовского чувства, потому как они еще молоды, а у тебя своих сколько! Как сердцем не болеть!
– Жалеешь, значит? – спросил я его.
– Знамо дело, жаль сироту горькую. – Трофимов шумно, со злобой высморкался. – Не ответчики они за отца, мать. Без вины виноватые… Время, известно, военное, сердитое время, только на человеках таких отыгрываться – не дело это, не по-нашему…
Блатов громко выругался и, встав на пути Трофимова, зашипел:
– Много ты понимаешь! Думаешь, хлопчику слаще было б с такими родителями? Да из него самого поганец непременно бы получился!
Трофимов вдруг заволновался и, глядя то на меня, то на Богданова, заговорил быстро с робкой надеждой:
– А что, если?.. Давайте отдадим дите верным людям на воспитание. Кому-нибудь подальше отсюда, чтобы они не знали и дите не знало… Связным нашим дать – со строгим наказом, чтобы человека вырастили. Как, товарищи командиры?
– Вот это дело! – неожиданно поддержал его Блатов. – Котелок у тебя варит! Война кончится – в детдом как военную сироту определят. Жив бы только был.
Выход найден, но… «Помни, если на этот раз повторится известная тебе история, расстреляю». Нет, не стану я им напоминать о приказе Самсонова.
– Давай, Степан, – говорю я Богданову, – так и сделаем.
Богданов долго молчит, Трофимов, Блатов с нетерпением ждут его ответа – они боятся за одну жизнь. Я боюсь за две, и одна из них – моя собственная.
– Гляди сам, – отвечает Богданов, – дело тебе поручено.
Я знаю – с этим старшиной-сверхсрочником бесполезно говорить, он выполняет приказ. И Самсонов, конечно, расспросит его обо всем. Ну и пусть!
Но даже в Богданове, в этом, казалось бы, безжалостном, бездушном автомате, живы еще человеческие чувства. Дочь гестаповки охранял Трофимов. Когда мы вышли на залитую луной улицу, я увидел, что Трофимов стоит один.
– А где девчонка? – спросил я.
Трофимова обступили остальные бойцы отделения. Он посмотрел вдоль улицы, виновато повесив голову:
– Удрала пацанка!
– Вон она, шпионкина дочь! Вон у забора! – крикнул Богданов и вскинул автомат, повел дулом, прицелился.
– Схватила плюшевого медвежонка и удрала! – сказал Трофимов.
– Степан! – тихо окликнул я его, рукой пригибая книзу дуло автомата.
– Как увидел я того медвежонка, – говорил Трофимов, – так и руки у меня опустились.
Степан обернулся ко мне, скользнул взглядом по нашим лицам и медленно повесил на плечо автомат.
– Темно-то как! – пробормотал он сердито. – Хоть глаз выколи. Ни хрена не вижу.
Ребенок был отвезен за много верст и отдан в верные руки, в дом одной из наших связных.
Всю ночь, возвратясь из Рябиновки, я не мог уснуть, не мог унять душевную дрожь. Когда я решил стать диверсантом, я не спрашивал себя: правое ли наше советское дело? Это убеждение составляло неотъемлемую часть моего сознания. Но в эту ночь, когда я поднял оружие на женщину, я в первый раз задал себе этот вопрос. Задал и ответил уверенно – да, правое! Только это – не приказ Самсонова, а приказ совести – и позволило мне нажать на спусковой крючок. И я понял тогда важную истину: настоящему человеку легче отдать свою собственную жизнь за дело, в которое ты веришь, чем во имя этого дела отнять жизнь у другого человека. Только тот истинный и честный патриот, кто не ставит собственную жизнь выше дела, только он имеет моральное право на суд и казнь. И обыкновенным преступником, убийцей становится человек, который, отняв чужую жизнь во имя долга, в минуту смертельной опасности сам изменяет долгу. Подумал я и о наших врагах, ведь есть же и среди них идейные, убежденные в правоте своего гибельного дела люди. Горько сознавать, что люди так же храбро умирают за ложную веру, как и за правую, если ложная им кажется правой. Но историческая неправота их дела клеймит убийцами и преступниками и тех из них, кто, убивая защитников правого дела, был готов к самопожертвованию…
И теперь я понял до конца, почему был так трагично нелеп подвиг самоотвержения Саши Покатило. На войне родина требует от нас самоотвержения во всем – отказа от многих радостей жизни, от свободы воли, даже высшего самоотвержения – самопожертвования, отказа от жизни. Но наша родина никогда не захочет отнять у нас нашу честь, нашу совесть. А те командиры, те «полпреды», что захотят этого, – враги родины, истинные враги народа, потому что они отнимают честь и совесть у народа.
…Самсонов страшно спешил, когда Богданов докладывал ему о выполнении этой операции. Он сидел в кабинке зашарпанной «гробницы». Мотор приглушенно хрипел, пыхал нагретым воздухом, нетерпеливо вибрировал весь наш старый боевой конь. Кухарченко барабанил пальцами по баранке: он хотел успеть объехать до вечера все отряды.
– Всех? – спросил Самсонов, переводя взгляд с Богданова на меня.
– До единого! – лихо соврал Богданов, разрубая воздух ребром ладони. Богданов, к счастью, принадлежит к тем парням, которые за высшую доблесть почитают обман начальства во имя товарищества. – Дом, правда, не спалили – ветер был, пожар мог перекинуться на соседей.
– Чудесненько! – протянул Самсонов, улыбчиво оглядывая меня с головы до ног. – Ну вот! Вылупился. Стал настоящим мужчиной. Мы растем, мужаем, становимся настоящими мстителями. Со слюнтяйством кончено, а?
В голосе его слышалось не только торжество, но и насмешка. Сам Самсонов, видно, хотел сломать меня, сделать своим сообщником, и теперь он считал, что добился своего. А к сообщникам своим, к людям покорным ему, он относился с брезгливым презрением.
– Поехали, лейтенант! Только, уж пожалуйста, без лихачества! – сказал, взглянув на часы, Кухарченко, как видно уже забыв обо мне: его ждали неотложные и куда более важные дела.